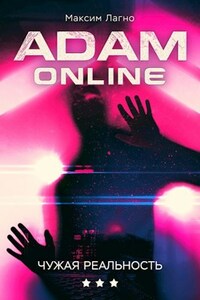ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПЕСНИ РЕЯ
Старый город Шеан изнывал от жары. Необычайно сильное солнце нещадно палило вторую неделю, высушивая посевы на полях в округе, раскаляя камни стен и дорог, обжигая белокожих дамочек и заставляя обливаться потом лордов в бархатных камзолах и кожаных сапогах.
Несмотря на жару, ко Дню конца года в столицу набилась громадная толпа всевозможного люда: были и благородные — на конях или в носилках, разряженные и разукрашенные, были и простые — толстые усатые купцы, бедняки-оборванцы, а с ними — разукрашенные пёстрые музыканты, плясуны, фокусники и шарлатаны, планировавшие подсобрать золотых перед долгой и голодной зимовкой. Единственное, что всех объединяло, это то, что каждый кричал на входе в город: «Слава королю Эйриху!», — а войдя, мгновенно пропитывался потом и пылью, начинал нестерпимо вонять и оказывался стиснут двумя дюжинами локтей и задов.
Чтобы избежать этой незавидной участи, труппа Одноухого Сэма встала не в пределах вторых городских стен, а немного поодаль, на опушке Ведьминой рощи. Цветной фургончик спрятали за деревьями, а артисты расположились на желтоватой траве и, раздевшись почти до неприличного, предавались блаженному ничегонеделанью перед вечерними представлениями.
— Нич-о, — сквозь бурую жвачку поговаривал Сэм время от времени, — пройдём.
Наверное, в глубине души (если только у Сэма душа ещё не превратилась в кошель с монетами) он опасался, что, слишком долго прождав, труппа упустит лакомое место. Но свой комфорт Сэм любил даже больше денег, поэтому, повторив свое «Нич-о», он снова прислонялся к дубовому стволу и закрывал глаза.
Недалеко от него близнецы Би и Бо, седые и красноносые, вполголоса ругались из-за бутылки зианской огненной воды, а толстуха мамаша Лиз, думая, что её никто не замечает, чесала промежность, задрав повыше юбку. Посреди поляны развалился кучер — к нему было страшновато подходить, так сильно от него разило перегаром.
В стороне же, у другого толстого дерева, расположились двое, которым, кажется, было совершенно не место в этом балагане. Первый был мужчина, ещё не старый, тридцати с небольшим лет. Его щёгольский малиновый дублет висел на низкой ветке, а сам он, в рубашке и ладных штанах, чисто выбритый, с густыми угольно-чёрными кудрями, обнимал цитру из светлого дерева и то и дело нежно касался пальцами её струн, не извлекая, правда, ни одного звука. Его губы шевелились, возможно, проговаривая ноты или слова песни.