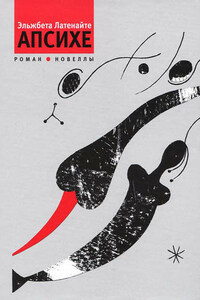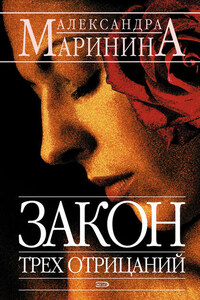[1]
Исподтишка, без устали, безоглядно, медленно, со все усиливающимся гулом множество кусков, отломившихся от самого ужасного музыкального произведения, выстраивались над головой. Взглянув вверх, ничего не увидишь, но стоит опустить глаза, как что-то придавливает книзу. Если не хочешь соскользнуть на землю, надо напрячь все силы дрожащего тела и стараться отбить ощутимость множества кусков, приближение которых пронзает и разрывает.
Приближалось не что иное, как вымысел. Все, что здесь было, есть и будет, – всего лишь вымысел. Каждое слово – вымысел пальцем в небо. Что-то, во что случилось уверовать, сильно и нерушимо. Еще один вымысел, разве что на этот раз поближе, посветлее и подолговечнее, но все же – вымысел. А вымысел – это такой каждый рикошет мысли, когда собственное сознание искривляется и, отскочив от бог знает каких привидений или привиденностей, берет и сотворяется, сосредотачивается в целую мысль.
Привидения и привиденности – это все, что вылезает из каждого угла, площадки или ямы, из каждого микрофона или из-за зубов, из-под обложки, корешков пергаментов, языков, и тогда меж пальцев, по перу спускается все с тем же жутким гулом. С каждого амвона и ораторской трибуны все эти вымыслы колют глаза и слух рокочущей, шумной, размахивающей руками жутью. Из-под благородных покровов, за которыми скрываются демиурги, профессора и знатоки – иначе говоря, признанные достигшими.
К ним, трибунам и площадкам, страшно не только приближаться. Если когда возникает желание изречь, сочинить предложение в один из тех микрофонов, сковавший изнутри холод тут же взрывает какой-нибудь глупый вопрос или лепет. Еще никому не удавалось произнести, высловить смысл так, чтобы трибуна не уморила их заранее своей жутью, своим мерзким и ложным предвидением. Она хватает открывшего рот за язык, за руки и виски и втирает – пробует обмануть, что тот ей уже близок. Пробует обмануть, что говорящий претендует на согласие или полемику, на разговор с тем, кто говорил и изрекал слова на трибуне до него.
Своей глупой головой трибуна дурачит великие множества, заманивает верой в то, что говорить можно только с нее, что говорить может только говорящий. Что трибуна, как некая контекстуальность смыслов, принадлежит новому говорящему, словящему.
Конец ознакомительного фрагмента.