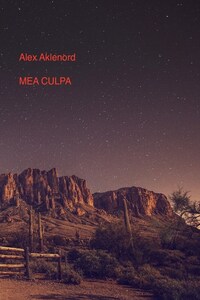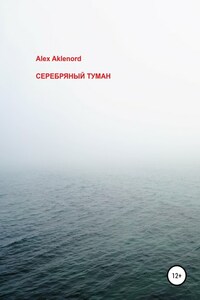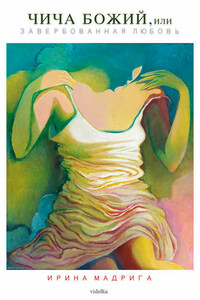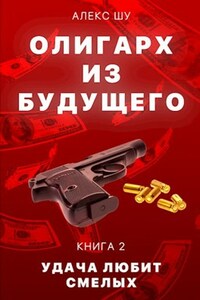Рогобой смазал сажей бороду, гребнем тщательно расчесал курчавый волос и, пачкая пальцы и вытянув подбородок, сноровисто заплёл тощие косички. Повозил их в заготовленной плошке с алой взвесью и обернулся. Хвостатка, разминавшая ему плечи, прищурилась, наклонилась и сильно укусила Рогобоя за нос. Взяла плошку, опрокинула ему на голову и уверенно взлохматила побуревшие кудри. Крошащимся углём вывела на лбу и щеках защитные руны.
– Страшила ты мой, – прошептала она, ткнула в бок, ухмыльнувшись, и убежала к отцу.
Серое солнце стремилось за горы, скудно освещая копошащееся на становище племя. Хрустела галька, скрипели точила и кожа затягиваемых нарукавников, подлаивали мордатые псы. Взывали к удаче в походе. А старый калека тряс бубном, подбрасывая в костёр чурки, и озирался на небосвод. Пары горной травы, превшей в раскалённом чане, ещё гасили возбуждение. Но как только солнце сгинет, ничто не удержит зов, который пробуждался острыми толчками на вдохе. И племя к зову готовилось.
Женщин и стариков уже отводили к валунам и хитрыми узлами привязывали к холодному камню. До отрыжки напаивали отваром из горной травы, чтобы стерпели и не перегрызли верёвки. Дети с опаской крутились рядом. Им зов не страшен, пока не созреют до брачных забегов. Но их не прятали – должны смотреть, привыкать и учиться, как выживать.
Рогобой стянул ремни на поножниках, накинул шкуру, хотя зов разливал по телу едкое тепло, подхватил короткое копьё и пробрался к бабе-Ирге.
Старуха пожёвывала жгучий корень, подвывала и скребла щёки. Это шёпот духов из чужого мира. Рогобой был уверен, что её разум то плавает над становищем, то проваливается в неведомое, откуда исходит зов. И хотелось побыть рядом, надышаться её будоражащим колдовством. Она чувствует переход, готовит его и скоро подаст знак.
– Ты, мальчик, сегодня не оплошай, – прошипела вдруг бабка, на миг очнувшись.
– А-ха, – продохнул Рогобой, дёрнувшись от нового приступа. И засмотрелся в наливающееся молоком пространство между двух столбов, сложенных из плоских каменьев с перекинутым поверх бревном, перед которыми томился одурманенный жертвенный бык.
Солнце последним краем лизнуло вершину горы, и баба-Ирга, прокашлявшись, резко заголосила. А за ней – и калека.
Освобождённый от пут и направляемый острыми копьями, первым в чужой мир ринулся бык. Легко вспорол молочную пелену, обнажая подрагивающий зев потустороннего. Сейчас быка обдаст паром и искрами, подкосит, и остатки перепонки, как живые, облепят тело и сожгут толстую кожу.