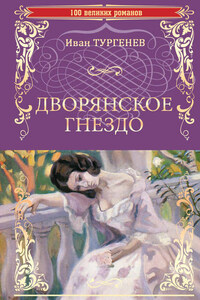Картины и чертежи Толстого
Лев Толстой (1828–1910) так долго жил, столько всего написал, столько разного наговорил, что все сказанное о нем и его творчестве может быть более-менее аргументированно опровергнуто. И тем не менее.
Последний, третий, роман Толстого «Воскресение» поражает своим механическим сочетанием мощного реалистического полотна с горячей, но плоской публицистикой. Как если бы на живописную картину оказался нанесен чертеж, линейная схема композиции. По-разному и по отдельности интересно то и другое.
Толстой изначально являлся в равной степени прирожденным художником слова и мучеником рассудка, что очевидно уже в его дебютных повестях о детстве-отрочестве-юности. Вероятно, подтолкнуло развитие будущего писателя в этом направлении раннее сиротство, когда детей Толстых их родня неоднократно передавала с рук на руки. А подстегнуло чтение взрослых книг – в особенности французских просветителей и рационалистов XVIII века, определивших дух и характер истории Нового времени. Присущая им независимость суждений, критика существующего порядка вещей и социальной несправедливости, вера в благость природы и всесилие разума, педагогика самосовершенствования сформировали мировоззрение Толстого. Его кумиром и поводырем в духовных исканиях сделался Жан-Жак Руссо, чей портрет в медальоне он в юные годы носил на груди рядом с ладанкой. Литературный талант Толстого всячески сопротивлялся его предрасположенности к доктринерству и нравоучениям, матеревшей по мере старения. Но эта же предрасположенность способствовала развитию его аналитических способностей. Беспощадная борьба двух противоположных влечений продолжалась в сердце, сознании и творчестве писателя на протяжении всей жизни. Он уже стыдился собственных романов, заклеймил Шекспира как соблазнителя человечества и неумеху, настаивал на антагонизме Красоты и Добра… и при этом на закате жизни продолжал сочинять одно из своих вершинных произведений – повесть о Хаджи-Мурате!
Прав был Ленин, восхитившийся: «Экий матёрый человечище!» – и гениально доказательно окрестивший Толстого «зеркалом русской революции». После третьей революции, Октябрьской, оба определения уже не требовали доказательств, с чем согласились не только философ Бердяев и историк церкви Флоровский. Подобно Руссо и Вольтеру, Толстой подготовил и разрыхлил – вспахал! – почву для социальной революции невиданных масштабов. Обладая темпераментом ересиарха, своей сектантской аргументацией, антиисторизмом, правовым нигилизмом, верой в возможность построения царства божественной справедливости на земле он заразил множество русских людей, не имевших ничего общего с учением толстовства, однако не умевших думать самостоятельно и полагавшихся на моральный авторитет так называемых властителей дум.