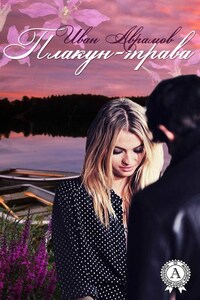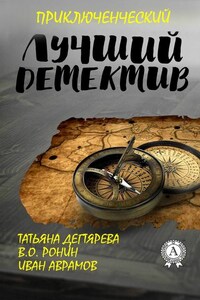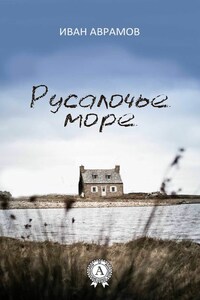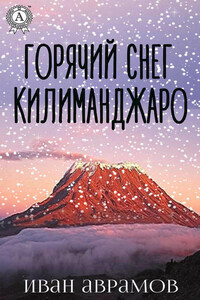НОЧЬЮ наснилась мне плакун-трава – будто шел я по берегу не то озера неведомого, не то безымянной полноводной речки, сплошь и рядом в плоских зеленых островках кувшинок, а обочь хорошо утоптанной змеиной стежки-дорожки, поближе к воде, кустилась высокая, по пояс, а кое-где и по грудь, плакун-трава. Она росла целыми, прямо-таки друг за дружкой, куртинами, и пурпурно-сиреневые ее метелки, или венчики, тревожно слепили меня. Ветер дул навстречу, и мне казалось, что в мире ничего не существует, кроме этой колыхающейся, где розовой, где багровеющей, но непременно с сиреневыми полутонами, ряби. Я забредал в заросли плакун-травы, осторожно и бережно, как младенцу-грудничку под спинку, когда собираешься его поднять, подсовывал под узкие и остренькие, похожие на ивовые, листья руку, и ладонь моя тут же становилась мокрой и холодной, точно я опустил ее в ведро с колодезной водой. Странное дело: сверху они были сухими, поблескивали на утреннем солнце, а с изнанки плакали навзрыд. И томила меня тоска, поначалу я не мог разобраться, что сжимает мне сердце, как перед недобром, а потом вдруг понял, или кто-то невидимый подсказал мне, что это тоска по несбывшемуся. По тому, что могло случиться, но не случилось, могло завязаться, но не завязалось, могло осчастливить, но не осчастливило. И совсем нежданно, как бывает лишь во сне, явилась мне на пустынном берегу разгадка: вдруг посреди самой дальней куртины, в самой ее гуще, где божья трава (или плакун-корень, или подбережник, или дедова трава, или камыш боровой – отчего-то все эти названия ясно и поочередно, как на уроке ботаники, пришли мне ум) закипала малиновым, опять-таки напополам с сиреневым, огнем, отчетливо, несмотря на расстояние, увиделась она, и лицо ее с ущербными лунами бровей, и гибкий стан, совсем уже не девичий, а налитый тяжеловато-женским ягодным соком. Наверное, что-то в ней чуточку изменилось, прошло ведь двадцать пять лет, как мы с ней расстались, но неизменными, это уж точно, остались лишь волосы, желтые, как осенняя айва, вобравшая в себя окончательный дозрев под солнцем на подоконнике.
– Ты?… – потрясенно, даже, скорее, испуганно спросил я, а она, несмотря на расстояние, хорошо услышала меня.
– Я, – насмешливо качнула головой – надо ж, мол, какой памятливый; густая желтизна волос мягко и закругленно коснулась предплечий.