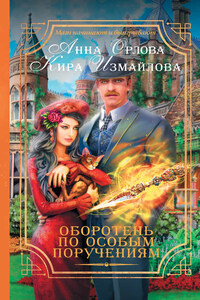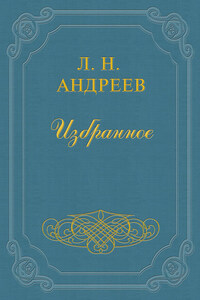Под легчайшим шагом не приминалась ни единая травинка, не хрустела ни одна веточка. Даже сероватые листья, давно отпустившие души в вырай[1], не шелестели. Милава привыкла ступать тихо, так, чтобы даже пряный летний ветерок не примечал вливавшееся в него дыхание. Ворожея родилась с редким даром: не вредить. А еще умела разглядеть чужие муки да отвести их прочь от страждущих. Пожалуй, девица и дальше жила бы в крохотной, поросшей мхом хатке, что притаилась между лесом и топью, – там она была счастлива, помогая зверю, птице и прочим обитателям земли-матушки, зачастую скрытым от человечьего ока, – но вещий сон прогнал покой и заставил отправиться в трудный путь.
А привиделось Милаве, как манит ее узловатым пальцем родная бабка – черная ведьмарка. И как бы ни хотелось миновать той встречи, она понимала: не уйти с этого света ведьмарке просто так. Всем ведомо, что темные помирают долго и тяжко, пока от силы своей не избавятся. Крепко страшило, что бабка перед кончиной приневолит внучку страшный дар перенять. Чуждо сердцу было такое наследие. Да только как растолковать то помирающей, что целый век копила черную мощь? Как подобрать нужные слова? Что, если озлобится, сговорится с Моровой панной[2], да нашлет, не дай Даждьбог[3], на селян какой хвори иль иной напасти.
Потому и лежал нынче Милавин путь в деревеньку, что славилась кожевенными мастерами и, хоть пряталась в лесу, нередко привечала пришлых торговцев, охочих до местного товара.
От тягостных мыслей ворожею отвлек заметно посвежевший воздух, что через десяток шагов наполнился птичьим гомоном. Видать, до Гиблого озера добралась. Отсюда до деревни рукой подать. Она отогнула веточку, потом еще одну, прокралась к воде и затаилась. На бревнах да валунах сидели озерницы да о чем-то взволнованно щебетали. И чего-то они так оживились? Вон, даже Милаву не услыхали. Перламутровые гребни то и дело углублялись в шелковистые зеленые локоны. Красоты озерницы были редкой – не диво, что молодцы да зрелые мужи в их сети попадали шибче, чем мухи в паутину. Ворожее очень хотелось узнать, о чем чирикают прелестницы, но она ни слова не знала из диковинного языка. Вот бабка наверняка бы все поняла: ей и звери жалятся, и гады ползучие из Навья