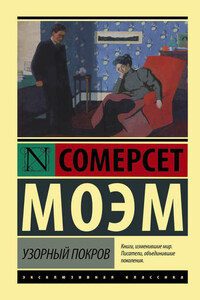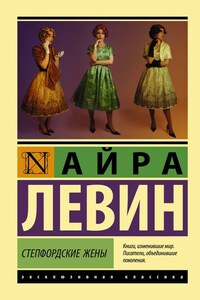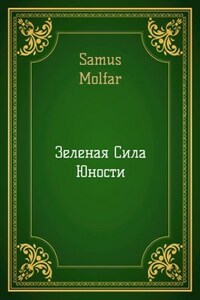Весь день жара была нестерпимой, но под вечер потянуло ветерком с запада, оттуда, где в нагретом воздухе садилось солнце и лежал за поросшими кустарником склонами холмов невидимый и неслышный отсюда океан. Ветер сотряс ржавые пятерни пальмовых листьев и оживил сухие, увядшие звуки знойного лета – кваканье лягушек, верещание цикад и нескончаемое биение музыкальных ритмов в лачугах по соседству.
В снисходительном вечернем освещении обшарпанные грязные стены бунгало и заросший бурьяном садик между верандой и пересохшим бассейном уже не казались такими запущенными, да и два англичанина, сидевшие друг против друга в качалках – перед каждым стакан виски с содовой и старый журнал, – точное подобие своих бесчисленных соотечественников, заброшенных в забытые Богом уголки нашего мира, тоже словно бы подверглись на время иллюзорной реставрации.
– Скоро придет Эмброуз Эберкромби, – сказал тот, что был постарше. – Зачем – не знаю. Оставил записку, что придет. Найдите, Деннис, еще стакан, если удастся. – Потом добавил с раздражением: – Кьеркегор, Кафка, Конноли, Комптон Бернет, Сартр, «Шотландец» Уилсон. Кто они? К чему стремятся?
– Некоторые из этих имен я слышал. Говорили о них в Лондоне перед самым моим отъездом.
– О «Шотландце» Уилсоне тоже?
– Нет. О нем, кажется, нет.
– Вот это «Шотландец» Уилсон. Его рисунки. Вы в них что-нибудь понимаете?
– Нет.
– Я тоже.
Минутное оживление сэра Фрэнсиса Хинзли сменилось апатией. Он разжал пальцы, выпустив из рук журнал «Горизонт», и неподвижный взгляд его уперся в темный провал давно высохшего бассейна. У сэра Фрэнсиса было нервное умное лицо, черты которого несколько утратили свою четкость за годы ленивой жизни и неизменной скуки.
– Когда-то говорили о Гопкинсе, – продолжал он, – о Джойсе, о Фрейде, о Гертруде Стайн. Этих я тоже не понимал. До меня всегда туго доходило новое. «Влияние Золя на Арнольда Беннетта» или «Влияние Хенли на Флекера». Ближе я к современности не подходил. Мои коронные темы были «Англиканский пастор в английской прозе» или «Кавалерийская атака в поэзии» – все в таком роде. Похоже, тогда это нравилось публике. Потом она потеряла к этому интерес. Я тоже. Я всегда был самый утомимый из писак. Мне нужно было сменить обстановку. И я никогда не жалел, что уехал. Здешний климат мне по душе. Люди здесь вполне пристойные и великодушные, и главное – они вовсе не требуют, чтобы их слушали. Всегда помните об этом, мой мальчик. В этом секрет непринужденности, с какой здесь держатся. Здесь говорят исключительно для собственного удовольствия. Ничто из сказанного этими людьми и не рассчитано на то, чтобы их слушали.