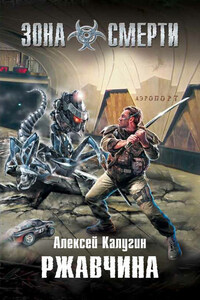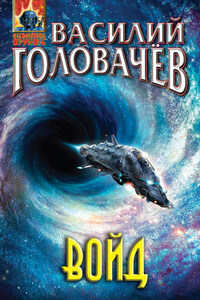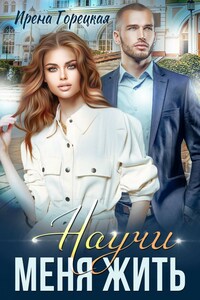Впервые о программе генетического картирования Геннадий Павлович услышал по радио, да и то по чистой случайности. Обычно Калихин радио не слушал, но в этот день у него была назначена встреча, и, чтобы не проспать, Геннадий Павлович с вечера выставил на музыкальном центре режим будильника. Будильник сработал в заданное время, но почему-то вместо компакт-диска, который Калихин накануне вечером аккуратно вставил в дисковод, включилось радио. И надо же было так случиться, что именно в это время, по той самой радиостанции, на которую оказался настроен тюнер музыкального центра, шла передача о международной программе, имеющей, как понял Геннадий Павлович, какое-то отношение к генетическим исследованиям. Захлебываясь от восторга, диктор вещал о том, что в соответствии с президентским указом, только что подписанным, – не иначе как указ вместе с завтраком подали президенту в постель, – к программе наконец-то подключилась Россия. Как и было положено, солидная программа имела название, которое с первого раза и не запомнишь. И дело тут было вовсе не в проблемах с памятью, на которую Геннадий Павлович никогда не жаловался, – спросонья он вообще мало что понял из того, о чем говорил диктор. Ясно было одно – правительство и президент готовы с юношеским энтузиазмом и комсомольским задором идти по пути новых свершений. «Еще бы им не стараться, – усмехнулся сквозь сон Геннадий Павлович, – международная общественность, как всегда, готова ссудить России кругленькую сумму на выполнение программы. Выделить-то она, может быть, и выделит, да только куда пойдут деньги – вопрос из разряда тех, которые в приличном обществе задавать не принято. Не потому, что неправильно будешь понят, а потому, что вразумительного ответа все равно не получишь».
Услышав, как тихо скрипнула осторожно прикрытая дверь, Геннадий Павлович приподнял голову и обернулся. Из умывальни вернулся сын. «Артем Геннадиевич Калихин», – мысленно произнес Геннадий Павлович. Ему нравилось, как звучало имя сына. Кроме того, оно как нельзя лучше соответствовало его внешности – опять-таки по мнению Геннадия Павловича. Артем был высок ростом и широк в плечах. Рисунок лица несколько портил лишь вялый подбородок с мягкой ямочкой, придававший двадцатичетырехлетнему парню вид закомплексованного подростка. Но кто-кто, а уж Геннадий Павлович точно знал, что сын за себя постоять умеет и свое место в жизни непременно найдет. Хотя, быть может, не так скоро, как хотелось бы. На Артеме были синие спортивные штаны, вытянутые на коленках, и белая майка без рукавов. На ногах – пластиковые шлепанцы. Через шею перекинуто полотенце. В темных, коротко остриженных волосах поблескивали капельки воды. На майке когда-то был рисунок – чей-то портрет, – но после многочисленных стирок опознать полустертую личность не представлялось возможным. Прикрыв глаза, Геннадий Павлович попытался вспомнить лицо того, кто был изображен на майке, – он ведь сам когда-то покупал ее сыну, – но ничего не вышло, – перед мысленным взором выплывало все то же серое пятно, что красовалось на груди Артема.