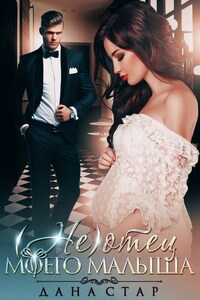Он давно изучил характер каждой собаки на пасеках, знал их в «лицо», как, впрочем, и собаки знали его. Он щадил их, даже в какой-то степени оберегал, потому что, порви он в горячке какую-нибудь очень уж назойливую собачонку, как немедленно появится новая, с неизвестным характером и повадками. А надеяться, что новенькая будет трусоватой, не приходилось, поскольку лайки в здешних местах славились храбростью и азартом, да и худых, робких псов на пасеках попросту не держали. Он понимал и то, что за порванную собаку, возможно, последует мщение хозяина, и кто знает, удастся ли на сей раз уберечься от пули?
Собаки, в свою очередь, хоть и проявляли рвение и азарт, когда он забредал на пасеки, хоть и хрипели от ярости, но тоже щадили его и не особенно-то старались остановить, за-кружить в буреломнике и подставить под выстрел хозяину. Недюжинным собачьим чутьем они понимали, что на смену старому знакомцу придет чужой, бог весть какого нрава и характера, скорее всего молодой, гонористый и дурной. Свято место пусто не бывает не только среди людей, но и в природе. Слишком мало оставалось в лесах таких малолюдных и медовых мест, чтобы пустовать ему. Человек по своей самоуверенности считал, что преданней собаки никого нет на белом свете, но, как всегда, ошибался, потому что любой, даже самый захудалый пес все-таки оставался зверем и подчинялся звериным законам.
То было тайное соглашение, своего рода договор о добрососедстве на паритетных началах, достигнутый в глубокой древности и вживленный в звериное сознание на уровне инстинкта.
Медведь был старый, не раз стрелянный. Первую пулю он заработал еще пестуном, когда их с маткой подняли из берлоги. Она сидела в мышце у правой лопатки, давно уже обволоклась жиром и теперь беспокоила лишь вёснами, когда он, голодный, вонючий и полуоблезлый, выбирался на свет божий. От пули болели лопатка, спина; тугая, ноющая боль стреляла в лапу, мозжило подушечки пальцев. Зверь, ковыляя на трех, быстро уставал, часто садился по-человечески на колодину и качал перед мордой больную лапу, будто дитя. Однако скоро нагуливал жир, и боль утихала до следующей весны.
Второй раз его стрелял мальчишка. С испугу влепил заряд дроби почти в упор и убежал. Дробь изорвала кожу на голове, в клочья разнесла ухо, но ничего больше не повредила. Рана заживала долго. Он не мог зализывать ее и, зачервивевший, больной, полуголодный, остался в зиму шатуном. Он давил в основном собак – тогда пасек и гарей в помине не было, – несколько раз забирался на скотокладбище, но в трупную яму не спускался: слишком глубока оказалась. Обилие пищи было рядом, стоило только съехать на заднице метра на четыре вниз, но сытость грозила смертью. Тощий и свирепый, он просиживал у ямы ночь и с рассветом, увлекая за собой деревенских собак, распахивал снега в сторону леса. Собаки настигали его, драли за «штаны», утопая, пытались отрезать путь по глубокому снегу, он шел, не обращая на них внимания, чтобы пуще разозлить и увлечь подальше в лес. Там он неожиданно и резко бросался на них, давил одну-двух – остальные вмиг убегали – и останавливался завтракать. Дважды за эту суровую зиму на него устраивали облавы, пытались выгнать из трущоб на луговины, где меньше снегу и где может держать собака, однако он уводил охотников за собой еще глубже в леса, путал следы. Он хорошо знал и определял расстояние выстрела и, чтобы сохранить жизнь, старался не подпускать ближе. Таким образом однажды он весь день вел за собой ораву стрелков, не прячась, на виду, и нетерпеливые сожгли по нему десятка три патронов, но до сумерек так и не настигли. А ночью, сделав круг, он подкрался к стану с другой стороны и задавил самого назойливого пса. В следующую облаву он намеревался уйти этим же способом, но отчего-то вдруг резко возросла досягаемость выстрела. И сами выстрелы были не такими, как раньше, а звонкими и короткими, словно лопнувший на морозе сучок.