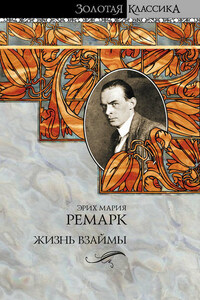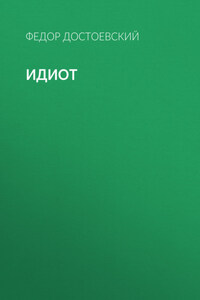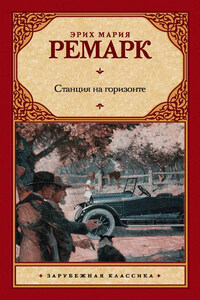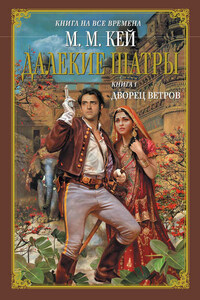То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце.
Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.
Я же – врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии – после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут… пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.
Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.
Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.
На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль: как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех!
Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-молнии.
«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? – говорил я сам себе ночью. – Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».