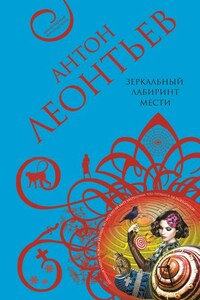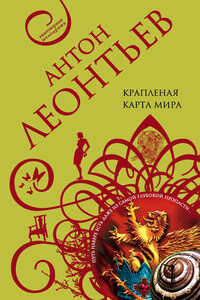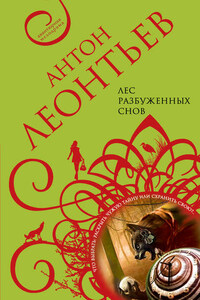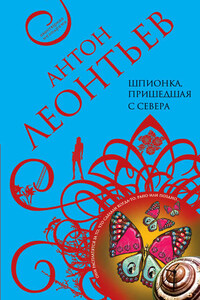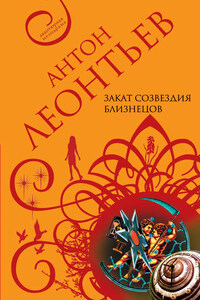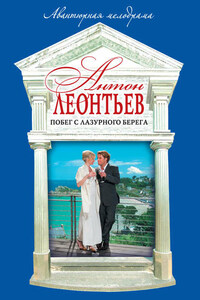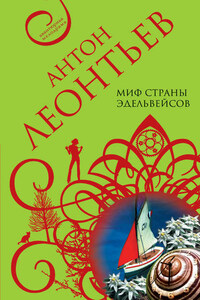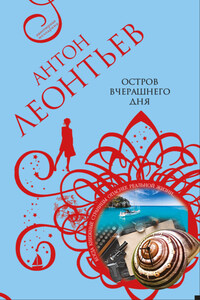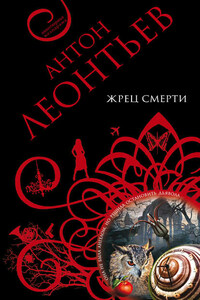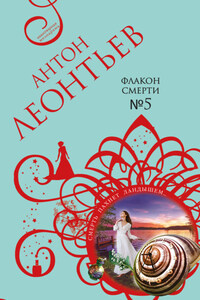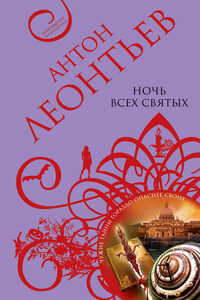То, что убьет ее, было частью плана с самого начала.
Но ее гибель должна была стать финалом – финалом большой и потрясающей драмы, имя которой месть. Ибо ее смерти надлежало стать последней, но далеко не первой в цепочке страшных событий, отдельных эпизодов его плана – его плана мести.
Нет, он не был безумным маньяком, свихнувшимся садистом или тайным сластолюбцем, получавшим наслаждение от чужих страданий и тем более от чужой смерти.
Однако этого требовали законы справедливости – той самой справедливости, которой был лишен и он сам, и его семья. Семья, о которой он мог хранить только воспоминания, ибо все ее представители – кроме двух – были мертвы, давно мертвы.
Впрочем, ведь и ему тоже надлежало тогда умереть. И он бы умер, если бы… Он отогнал назойливые воспоминания, прекрасно зная, что избавиться от них невозможно. Ибо они преследуют его днем и ночью.
В особенности ночью.
Ведь сколько раз он просыпался во тьме от собственного сдавленного крика, с дико бьющимся сердцем, весь в тонкой пленке пота, все еще машинально сжимая скрюченными пальцами простыню.
И каждый раз перед глазами, подобно миражу, покачивалась, постепенно тая, одна и та же картинка. Его ночной кошмар. Точнее, то, что перешло в разряд ночных кошмаров, а когда-то было вполне реальным.
Уж слишком реальным. Буквально убийственно реальным.
Он просыпается в темной комнате и видит, что дверь приоткрыта. Сквозь щель прорывается косой луч желтого, какого-то мертвящего света. Он, сам не зная почему, покрывается мурашками – и вдруг до него доносится приглушенный крик. Несмотря на то что крик длится всего мгновение, он узнает голос. Это голос его матери. Он сбрасывает одеяло и опускает ноги на пол. Холодно, очень холодно. Подходит к двери, открывает ее – и его ослепляет поток этого самого желтого мертвящего света. Он в коридоре. Снова доносится стон. Он выходит в коридор, сворачивает и попадает в зал. Там тоже горит свет, но он какой-то другой… Не такой мертвящий, а тусклый, словно… Словно уже умерший. На истертом ковре с ромбами и треугольниками, застеленном простыней, кто-то лежит. Ему видны голые ноги, задравшаяся ночная рубашка. И кровь, которой везде много. Кровь, кровь, кровь… И он знает, что этот некто с голыми ногами в ночной рубашке – его мама. Снова стон, на этот раз такой надрывный и жалостливый. И такой тихий. Он бросается к ней, и мама смотрит на него – лицо у нее белое, мучнистое, а взгляд полон ужаса. Она чего-то боится. Но даже не того, что ее ожидает. Не крови, которой заляпана и ее ночная рубашка, и ковер. Она боится, причем панически, чего-то иного. Ибо когда он пытается, присев, взять ее голову в ладони, она отталкивает его, силясь что-то сказать. Но вместо слов вырываются только сиплые хрипы. А ее глаза устремлены не на него, а куда-то в сторону. И только потом он замечает, что в комнате они не одни. Там, полускрытый шкафом, со стороны стола, находится еще кто-то. И именно его так боится мама, именно от него она и старается защитить своего сына. Он же, видя, как глаза мамы вдруг закрываются, инстинктивно поворачивается – и видит тень. Тот, кто находится в комнате, стоит прямо над нависшим над столом абажуром, и лица этого человека не видно. Да и человек ли это вообще? Голова мамы вдруг становится такой тяжелой, и он понимает, хотя явно слишком мал для этого, что она умерла. Но эта мысль не раздирает его душу, она, возникнув, тотчас исчезает. Ибо изменить ничего нельзя. А тот, кто скрыт абажуром, вдруг выходит из тени. В его руке он видит нож. И этот нож в крови. Он медленно поднимает взгляд и впивается глазами в лицо ночного посетителя. Того, кто виноват в смерти его мамы. Того, кто убил ее. И ужас пронзает его, ибо это не лицо человека, а морда монстра. Крик застревает в горле, а до ушей доносится шелест, идущий из пасти существа с окровавленным ножом в… В руке? Да нет же, в странной бугристой лапе! Убийца матери делает шаг ему навстречу и, шлепая по ковру, шипит: