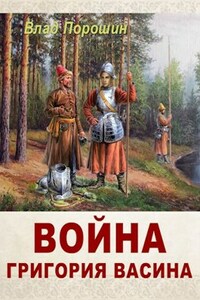В начале 1990-х гг. мы с Дмитрием Леонтьевым обсуждали идею книги о немедицинской психотерапии. И сегодня еще не затихающие споры о том, имеют ли психологи право заниматься психотерапией или это дело исключительно врачей, тогда бушевали вовсю. Психология в России только пробивала себе дорогу из академических институтов и лабораторий в практику помощи людям, и все «руководящие положения» были подстроены исключительно под медицинскую психотерапию. Мы были уверены, что ситуацию надо менять и что книга может стимулировать эти перемены, однако до самой книги руки тогда не дошли. С тех пор многое изменилось, психологическая практика вошла в жизнь, и сегодня к ней можно обратиться не как к желательному будущему, а как к развивающемуся настоящему.
Когда психиатр (а по своей исходной профессии я психиатр) выступает как сторонник немедицинской психотерапии, это выглядит странно, не так ли? На самом деле было бы странно не увидеть, не услышать и не воспринять те уроки, которые давала жизнь. Вот два примера.
1972 год. Я – еще молодой и по уши влюбленный в свою профессию психиатр. Одному из моих пациентов лет 35. Перенесенная когда-то травма головы оставила след в виде хронических слуховых галлюцинаций (мужские голоса), под влиянием которых он впадал в неодолимую ярость, с печальной регулярностью приводившую его в психиатрическую больницу. Говоря о них, он однажды с сожалением и трогательным удивлением спросил: «В.Е., ну почему голоса меня все время подъелдыкивают?» Как-то на дежурстве, ночью уже, я зашел в свое отделение. Он не спал, и я пригласил его в кабинет, где мы просто болтали за чашкой чая. Слово за слово – он заговорил о своем детстве. В рассказе было очень много обиды на отца, который постоянно недооценивал его успехи, корил за неудачи и наказывал за малейшие проступки, все время требуя от него больше, чем мальчишка мог, видимо, полагая, что слова типа «слабак», «дурак» и т. п. подвигнут сына на достижения. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, я просто слушал его. А он говорил и говорил – то ли мне, то ли самому себе. И с какого-то момента в его словах, исполненных обиды и боли, зазвучало сочувствие к отцу, который не мог разглядеть в нем того, что хотел видеть. Напряженность его воспоминаний-размышлений стала спадать, разговор сам собой свернулся, и он отправился спать. Через несколько дней медсестры обратили внимание на то, что он стал мягче и дружелюбнее, и если и говорит с «голосами», то не только без озлобления, которого раньше было хоть отбавляй, но даже иногда с улыбкой. Когда я спросил его об этом, он не без удивления сказал, что «голоса» перестали его «подъелдыкивать»; да, они есть, но они лишь комментируют его действия, советуют, иногда шутят. Он настолько изменился, что через две недели смог выписаться. В больнице я его больше не видел. Спустя несколько лет мы случайно встретились в трамвае. Он сам поздоровался (я никогда при случайных встречах не вступаю в контакт первым – это золотое правило психиатров, гинекологов и венерологов) и пересел ко мне. Его галлюцинации не исчезли, но стали не столь интенсивными и постоянными, а главное – теперь они были вполне миролюбивыми, даже дружескими и поддерживающими. Очевидно, что переломным моментом послужили наши с ним посиделки за чаем, когда он разрешил свои внутренние проблемы, связанные с отцом.