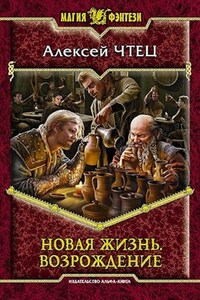Париж, конечно, был не столько городом, сколько невыносимо отчетливой мигренью, острой болью в виске, где каждое брусчатое мощение, каждый фасад из жженого кирпича, каждый сумасшедший голубь на крыше был всего лишь фантомом, проекцией изношенного сознания, которое отказывалось, наотрез отказывалось примириться с тем, что оно – всего лишь набор случайных нейронных импульсов, случайным образом сложившихся в некую, с позволения сказать, личность, которую в прошлой жизни звали, ну пусть будет, Жаном, а сегодня, в этот самый пропитанный запахом круассанов и кофе день, именуют Жюльеном, хотя и Жюльен – это, разумеется, тоже лишь временный, сугубо конвенциональный ярлык, наспех приклеенный на бутылку с вечно бурлящим вином бытия, которое все равно рано или поздно взорвется, разбрызгивая осколки на онемевшие стены, на мостовые, на случайных прохожих, на которых в этот момент снисходит озарение, что их собственное существование – это лишь, как выразился бы старый добрый Сартр, «ничто, лежащее в основе бытия», или, как сказал бы Бодлер, «кошмар, который мы называем жизнью», или, если угодно, как сказал бы мой друг, «заблудший ангел, который никак не может найти дорогу домой», и этот Жюльен, или Жан, или просто это сгусток материи, скомканный комок бытия, эта когнитивная диссонансная субстанция, идущая по бульвару Сен-Жермен, чувствовал себя именно так – потерянным, расколотым, изломанным, словно старый зонтик, забытый кем-то на летней террасе и внезапно распахнувшийся от порыва ветра, зацепившись за ветку, зацепившись за то, что было, за то, что могло бы быть, за то, чего не стало, за то, что, по словам великого Уильяма, «весь мир – театр, и все мы в нем актеры», но что, если ты всего лишь декорация, что, если ты – просто стул, просто ваза, просто тень на стене, отброшенная чужим силуэтом, и все эти голоса в голове, эти обрывки мыслей, эти зашифрованные послания – «Я не знаю, куда идти, я не знаю, кто я, я не знаю, что такое любовь, я не знаю, что такое смерть, я не знаю, что такое жизнь», – это не твои собственные мысли, а просто эхо чужих, так неловко застрявшее в мозгу, так безнадежно там заблудившееся, что оно уже стало частью тебя, твоей плотью, твоей кровью, твоим дыханием. Он свернул на узкую улочку, которая пахла чем-то несвежим, чем-то вроде гниющих яблок, но это мог быть и запах его собственных мыслей, потому что, как известно, «мысль – это всего лишь червяк, который ползет по извилине», а черви, как известно, любят гниль, и он вспомнил, как в прошлой жизни, когда он был еще, допустим, котом, он тоже любил сидеть на подоконнике и смотреть на этот мир, на эти тени, на этих людей, которые казались ему такими странными, такими нелепыми, такими суетливыми, и он не понимал, зачем они так спешат, зачем они так куда-то бегут, когда можно просто сидеть и наслаждаться солнцем, но теперь он сам был человеком, и он сам куда-то спешил, сам куда-то бежал, не зная, куда, не зная зачем, просто бежал, потому что, как известно, «бег – это единственная константа в этом мире». А в его рюкзаке, который он так небрежно перебросил через плечо, лежал старый дневник, в который он в свое время пытался, тщетно, как он теперь понимал, записывать свои сны, свои мысли, свои чувства, но в итоге все это превратилось в какой-то бессмысленный, обрывочный набор слов, в какой-то непонятный для него самого текст, в котором то и дело появлялись цитаты писателей, которых он никогда не читал, цитаты поэтов, о которых он никогда не слышал, цитаты философов, которых он никогда не понимал, и он подумал, что, возможно, этот дневник, этот текст – это и есть он сам, это и есть его жизнь, и что «жизнь – это просто набор цитат, которые мы пытаемся связать в один бессмысленный текст». И он рассмеялся, потому что в этот самый момент понял, что это его собственная цитата, что это его собственное, выстраданное им самим, осознание, и он почувствовал, как что-то внутри него щелкнуло, и он вдруг, как это бывает только в плохих фильмах, в которых герои вдруг обретают свое второе «я», понял, что «он не является тем, кем он является», и он снова рассмеялся, потому что эта фраза была тоже не его, а чьей-то, чьей-то чужой, и это было так ужасно и так смешно одновременно, что он не мог удержаться от смеха, и он смеялся, и шел, и смеялся, и шел, и его смех был единственным, что было в нем сейчас настоящим, единственным, что было в нем живым, единственным, что было своим, а не чьим-то еще, а не чьим-то чужим. Его звали Петром, а, может, и нет. В любом случае, это не имело никакого значения, потому что имена, как сказал бы один старый знакомый философ, – это всего лишь ярлыки, наспех приклеенные на вещи, которые, по сути, не имеют никаких ярлыков, и уж тем более – никакой сути, и поэтому, когда он проснулся в этой комнате, которая пропахла табаком, он не знал, кто он, и не знал, где он, и не знал, что это за место, хотя и знал, что это, несомненно, Париж, потому что, как известно, Париж всегда остается Парижем, и его, как известно, «нельзя забыть, даже если очень захочешь», а он очень хотел, потому что прошлое было для него, как и для любого другого человека, которого можно было бы назвать человеком, а не просто, как бы это поточнее выразиться, сгустком энергии, – как колючий, неудобный свитер, который ему подарили на Рождество, и который ему пришлось носить, хотя он его и ненавидел, и все в этой комнате было чужим, начиная с кровати, на которой он спал, и заканчивая картиной на стене, на которой был изображен какой-то очень печальный клоун с красным носом и белым лицом, который, судя по всему, знал о жизни гораздо больше, чем Петр, и смотрел на него так, как будто хотел что-то сказать, но не мог, потому что, как известно, «слова – это всего лишь тень мысли», а у тени, как известно, нет голоса, и в этот момент он услышал, как в дверь стучат, и он подумал, что это, возможно, его судьба, которая, как сказал бы тот же философ, «стучится в дверь, а ты ее не замечаешь», и он встал, подошел к двери и открыл ее, и на пороге стоял тот самый клоун, необычный такой, с такими умными, такими печальными глазами, что он невольно подумал, что, возможно, этот клоун и есть его судьба, что он и есть то самое, что он так долго искал, и он нежно обнял его, и клоун, в свою очередь, обнял его, и в этот момент он почувствовал, как что-то внутри него щелкнуло, и он вдруг понял, что «он не является тем, кем он является, и является тем, чем он не является», и он снова рассмеялся, потому что эта фраза была тоже не его, а чьей-то, чьей-то чужой, и это было так ужасно и так смешно одновременно, что он не мог удержаться от смеха, и он смеялся, и шел, и смеялся, и шел, и его смех был единственным, что было в нем сейчас настоящим, единственным, что было в нем живым, единственным, что было в нем своим, а не чьим-то еще, а не чьим-то чужим, и он вышел на улицу, и ему показалось, что он видит все впервые: вот сидит старик с газетой в руке, вот женщина с коляской, вот мужчина с собакой, и он вдруг почувствовал такую невыносимую, такую острую, такую пронзительную тоску по всему этому, по всему, что он потерял, по всему, что он не успел обрести, по всему, что он не успел понять, что ему захотелось лечь прямо на тротуар и просто, как это делают дети, плакать, плакать, пока не кончатся слезы, но он не мог, потому что он был взрослым, потому что он был мужчиной, потому что он был, как его принято было называть, человеком, и он знал, что «плакать – это прерогатива сильных», а он был слабым, очень слабым, и поэтому он не плакал, а просто шел, и шел, и шел, пока не наткнулся на уличного музыканта, который играл какую-то очень знакомую, очень печальную мелодию, и он вдруг вспомнил, как в позапрошлой жизни, когда он был еще, допустим, женщиной, он тоже любил слушать эту мелодию, и он не знал, почему, и он не знал, откуда он ее знает, но он просто знал, что она ему нравится, что она ему близка, что она ему дорога, и он остановился, и слушал, и слушал, и слушал, пока музыкант не закончил, и он ничего не сказал, а просто пошел дальше, потому что слова были не нужны, потому что все, что нужно было сказать, уже было сказано, уже было сыграно, уже было прожито. И он вошел в кафе. Заказал кофе. Он пил кофе, и ему казалось, что он пьет не кофе, а свою жизнь, глотками, глотками, глотками, и каждый глоток был как маленький, отдельный мир, со своими радостями, со своими печалями, со своими надеждами, со своими разочарованиями, и он пил, и пил, и пил, и он уже не знал, где заканчивается кофе, и где начинается его жизнь, и он вдруг вспомнил, как в еще одной прошлой жизни, когда он был еще, допустим, птицей, он тоже любил пить из луж, и он не знал, почему, но он просто знал, что ему это нравится, что ему это близко, что ему это дорого, и он пил, и пил, и пил, пока не напился, и он уже не знал, где заканчивается лужа, и где начинается его жизнь.