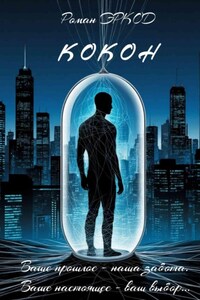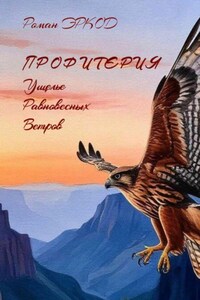Новый день. Запах. Всегда он начинался с запаха. Едкая, пронзительная смесь уксусной кислоты, тиосульфата натрия и чего-то еще, неуловимого, что пахло пылью и временем. Для Максима этот химический коктейль был надежнее любого транквилизатора, дорогого виски или сеансов у платного психотерапевта. Он был его якорем, ритуалом отключения от внешнего мира. В этом красноватом сумраке домашней лаборатории, под аккомпанемент равномерного бульканья воды в кювете, мир за стеклянной дверью переставал существовать. Здесь не было ни вчера, ни завтра. Был только процесс.
Он снова погрузил в раствор лист фотобумаги и ждал, опершись ладонями о край стола, вглядываясь в багровую мглу, словно пытаясь разглядеть в ней ответы на вопросы, которые не давали ему покоя. Он ждал, пока собственные руки перестанут дрожать. Это была мелкая, предательская дрожь, начинавшаяся где-то глубоко в солнечном сплетении и разбегавшаяся по жилам тонкими, невидимыми струйками адреналина. Следствие «того» дела. «Дело «Садовода»», ‒ мысленно произнес он, и этого было достаточно. В висках застучало, а в горле встал комом тот самый, знакомый до тошноты страх. Не страх смерти, нет. Хуже ‒ страх бессилия. Страх, что ты видишь ужас, фиксируешь его на пленку, а остановить не в силах. Что ты ‒ всего лишь беспристрастный регистратор чужого конца.
Он сжал кулаки, вдавив костяшки в старую, потертую столешницу, и задержал дыхание. Счет до десяти. Выдох. Еще один вдох, глубокий и шумный. Дрожь слегка утихла, отступила, но не исчезла. Она никогда не исчезала до конца. Она стала его сожителем, этой тряской в руках и нервным тиком в углу левого глаза, вечным напоминанием о том, что его нервная система ‒ это порванные провода под напряжением.
На белом листе, как призрак из небытия, начал медленно проступать силуэт, рождаясь из пикселей химической реакции. Еще один его спасительный, нарочито безлюдный пейзаж. Старый, полуразрушенный причал на каком-то заброшенном озере, который он отыскал во время одной из своих бесцельных поездок за город. Кривые, сгнившие сваи, уходящие в черную воду. Серое, низкое небо, намертво сливающееся с серой, свинцовой водой. Ничего живого. Ни одной души, ни птицы в небе, ни рыбы в воде. Ничего, что могло бы напомнить. Только холодные камни, мертвое дерево и вечное, тоскливое, всепоглощающее безмолвие. Максим ловил это безмолвие, пытаясь вдохнуть его в себя, заполнить им каждую клетку, вытесняя память о криках, которые до сих пор звучали в его кошмарах. Почти получалось. Но лишь почти.