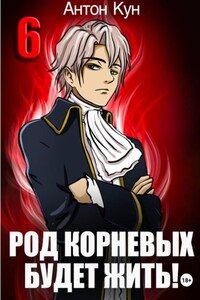Папа сидит у постели бабушки, она уже полностью не видит на один глаз и слабо отличает очертания силуэтов на другой, не встаёт две недели, и два года как не выходит из дома. Сегодня Пасха и моя рабочая смена, но мы сейчас вместе. Папа читает ей утреннюю газету – своего рода ритуал, означающий, что и в этом бескомпромиссном маршруте остаются ещё нерушимые основы, на которые можно опереться. Ему нужно опереться.
Бабушка снова пытается свести разговор к смерти. Волнуясь, срывающимися нотками пытается воссоздать ранее присущий ей озорной крестьянский напор, бессрочное детское жизнелюбие.
– Поминайте меня огнёвым чаем, либо никаким! – «как она умудряется пить этот кипяток?», – думаю я, сидя в углу на жёстком стуле, скрестив руки на груди.
– Мама, ну, прекрати, ты не умрёшь, не надо про это, не надо! – умоляя, сюсюкает папа. Он никогда не терпит подобных разговоров, и сегодня не исключение. Тем более на Пасху.
– Бабушка, почему люди умирают? – спрашиваю я из-за шкафа.
– Чтобы жизнь имела смысл, – без колебания ровным дыханием выдаёт моя мудрая уютная бабушка, в обществе которой всегда ощущаешь себя, как дома.
– Ты… это, поправляйся… Христос Воскрес! – сглотнув комок, стыдливо говорю я, пряча глаза, не веря своим словам.
– Воистину Воскресе! Всё будет хорошо , или очень хорошо! , – бледной тенью звучат в голосе отца знакомые интонации бабушки, как эхо её лучших счастливых дней.
Я впадаю в весеннюю улицу, растекаюсь в ней, вытирая слёзы – напрасно обманулась, что у постели моей всё знающей бабушки наберусь храбрости для следующего тяжёлого разговора.
Меняю курс: за угол на проспект, потом в проулок, каблуки цокают в такт трусливому сердцу, цок-цок, цок, ныряю в арку, цок-цок, и быстро выплываю к центру реабилитации. Меня уже ждут.
Расписываюсь на проходной, цок-цок, по лестнице на третий этаж, поворачиваю к своей приёмной, цок-цок, пальцы нервно вторят каблукам по сумочке. Вот и Полина. Глазами новорожденной впивается в меня, не отпускает, просит.
– Здравствуйте, Полина. Кто у нас сегодня? – я знаю, кто.
– Ждёт уже, – шепчет Полина, – минут двадцать уже. Эта..та.. вдова ….
Вдову зовут Ирина Александровна, и не то, чтобы она вдова, хотя где-то в прошлом непременно в данном статусе отметилась, но сейчас – жертва неудавшегося суицида, так говорят, когда человек после попытки убить себя остаётся жив, потому что сам недостаточно старался, либо был спасён кем-то другим. Я всегда находила формулировку чересчур жестокой, однако среди врачей, пребывающих в этом каждый день, эмоциональное выгорание и циничный юмор – порой единственный способ, чтобы защитить свои сердце и здоровье для того, что если уж не чувствовать, то хотя бы продолжать работать. Но тут суть в том, что Ирина Александровна не столько жертва неудачного суицида, сколько мать, недавно потерявшая ребёнка. Как называется мать, похоронившая своего ребёнка? Наверно, это слово настолько ужасно называлось бы и звучало, что его просто не придумали.