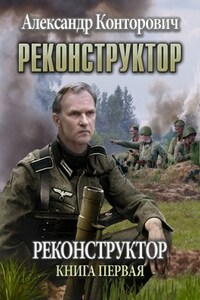Утра Несветаева не любила. Заснуть ей удавалось только после четырёх, и вся эта бодряческая музыка: лязг трамваев и визг тормозов под окнами, низвергающиеся с рокотом ниагары в соседских клозетах, хлопанье дверьми, окрики из окон вслед что-то забывшим растяпам, гавкотня выгуливаемых собак и раздружившихся соседок – её бесила.
Сегодня ей надо было в ЖЭК. Читать Бодлера согнанным домовым активом пенсионеркам:
«…Всё празднества греха, от преступлений сладких
До ласк, убийственных, как яд,
Всё то, за чем в ночи, таясь в портьерных складках,
С восторгом демоны следят».
Как они возмущённо станут хлопать откидными сиденьями вытащенных из жэковской каптерки советских стульев! Два задрота на исходе мучительного пубертата, затащенные в красный уголок своими бабками, желающими «приобщить внуков к культуре». Одна средних лет сотрудница, пожертвовавшая обеденным перерывом.
«Съедать по сердцу в день – таков девиз твой гнусный.
Зазывные глаза горят, как бар ночной,
Как факелы в руках у черни площадной», – и вдруг Несветаева срывающимся голосом примется рассказывать им вдогонку, этой черни площадной, которой она, в общем, сочувствовала, жалея за убожество. Сообщит этим пасынкам птиц о том, что всю свою сорока-с-чем-то-летнюю жизнь Шарль рвался служить высокому, мучительно искал идеал, раздваивался между ужасом перед жизнью и восторгом от неё же… Несветаева заплакала.
Она старела, да. Её ледяной панцирь, её броня всё чаще таяла и сочилась. Несветаева ненавидела себя в такие минуты. Она не терпела слякоти ни в других, ни в себе.