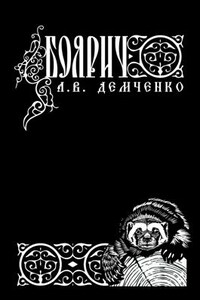Часть первая.
ДВОЙНЯ.
I
Средний Урал. 1923 год.
Огромный живот ходил ходуном и при каждом его движении раздавался то сдавленный, похожий на мычанье крик, то по-собачьи скулящий стон. И еще скрипели колеса ветхой телеги, да раздавался цокот копыт фыркающей лошади. Сквозь заросли пшеничного поля было видно, как телега свернула к реке, миновала ее и потащилась вдоль березовой рощи, унося с собой крик и стон, скрип и цокот, оставляя за собой завесу дорожной пыли.
Кучер, коренастый дед со сморщенным, багряным лицом, видать, не дурак хлебнуть горькой, с шальными хитроватыми глазами, хлестнул от всей души лошадь, сплюнул сквозь беззубую щелину и, чуть повернув голову, крикнул.
– Ты ноги, точно в зевоте рот не разявай, не то дитя ешо выскачет! А куды нам тут дитя, до больнички терпи! Крепче ноги сдвинь, слышь, че говорю?
Лошадь фыркнула, телега споткнулась о рытвину, огромный живот подпрыгнул.
– Ты жива там, Дарья, нет?! – дед потер одеревеневшую жилистую шею, развернулся всем корпусом.
В телеге, засланной тряпьем напополам с прошлогодним сеном, лежала женщина. Мягкотелая, округлая и белокожая, пышущая бабьей плотью, точно сдобная булка сахаром. Растрепанные, выбившиеся из косы волосы, прилипли к мокрому лбу, огромные, одуревшие от боли глаза, таращились в хмурое небо. Одной рукой женщина гладила огромный прыгающий живот, обтянутый ситцевой цветастой рубахой, другой сжимала рот, заграбастав его в пятерню.
– Ну-ну, терпи-терпи! Прасковья-повитуха, мать ее к лешему, Богу душу отдала, вот и тащись тепереча за триста верст!
Задул ветер, затряс ветки деревьев, заколыхал в реке воду. Где-то вдали раздались раскаты грома, на высохшую за лето землю упали долгожданные капли. Дед свистнул задорно, размахнулся и хлестнул лошадь так, что та, несмотря на давность, понеслась, точно молоденькая кобылица.
Грозовые молнии за окном разрезали насквозь небо, осветили мертвым светом небольшую родильную, что находилась в приземистом деревянном доме, похожем на барак.
– Покричи, родимая, покричи…
Суетилась возле роженицы старенькая акушерка, промокала ей тряпицей мокрый лоб, гладила огромный живот мягкими руками. Роженица теперь молчала, глаза ее налились кровью и выпучились, будто кто их изнутри выдавил, зубы остро закусили иссохшиеся губы.
Внезапно грохнуло, точно от пушечного выстрела и в комнату ворвался ветер, сорвал со стола нехитрые медицинские причиндалы: марлю и бинты, серую вату. Зловеще захлопали оконные створки.