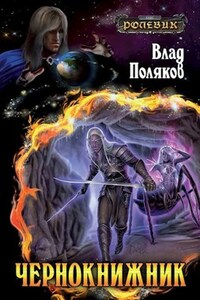Есть на лике нашей многострадальной земли места, кои сама природа, – или, быть может, некий раздраженный Демиург, уставший от однообразия рая, – предназначила для скорби. Не просто уединенные долины или угрюмые ущелья, нет. Сии суть гигантские чаши, высеченные из единой глыбы отчаяния, где сам воздух, густой и тяжелый, словно отцеженный сквозь ветошь тысячелетий, становится моральным приговором всему живому. Там горы – не защитники, но безмолвные и грозные тюремщики; солнце – робкий нищий, заглядывающий в окно невероятно скупого замка; а жизнь течет медленнее, подчиняясь не законам роста, но законам угасания.
Там, где ветер вертит снежинки
Бывают на свете места, где сама география становится моральным приговором, а природа, скупая и безжалостная, как раздраженный тиран, предписывает людям единственно возможные законы – законы скорби, воздержания и безропотного отчаяния. Таким местом, без сомнения, была Долина Вечного Инея.
Затерянная в каменных объятиях неприступных гор, она казалась гигантской чашей, выточенной из единой глыбы отчаяния рукой какого-то безумного божества-керамиста. Горы эти, вечные и молчаливые стражи, не защищали долину, но заключали ее в тюрьму, отсекая от мира живых свойством своей немыслимой высоты и постоянной угрозой обвала. Солнечные лучи являлись сюда редкими и робкими гостями, словно нищие, заглядывающие в окно богатого, но невероятно скупого замка, – чтобы на мгновение коснуться вершины скалы и тотчас же ускользнуть, испуганные царящим внизу мраком.
Воздух здесь был густ, тяжел и неподвижен. Казалось, его отцедили сквозь ветошь тысячелетий, пропитанную дымом бесчисленных костров и слезами бессчетных поколений. Он был не просто холодным; он был олицетворением самого Холода – субстанцией, враждебной всякому движению, всякому дыханию, всякой мысли. Он въедался в грубую шерсть одежд, в поры задубевшей кожи, в самые сокровенные извилины мысли, оставляя после себя стойкое послевкусие пепла и горькой покорности судьбе, что слаще любого яда.
Деревня, носившая гордое, но насмешливое имя Каменное Гнездо, цеплялась за крутой склон подобно упрямому пожилому альпинисту, чьи пальцы, истерзанные в кровь о скалистый утес, все же отказываются разжать свою хватку, ибо внизу – лишь бездна и забвение. Дома, слепленные из серого, бесстрастного камня и бурой, вязкой глины, казались не творением человеческих рук, а естественными наростами на теле горы, ее капризными бородавками и морщинами. Их кривые, покосившиеся стены повторяли прихотливые изгибы скал, а низкие, приземистые двери, скривившиеся от вечного ожидания неведомой беды, напоминали беззубые рты стариков, шепчущих неслышные проклятия в лицо надвигающейся вечности.