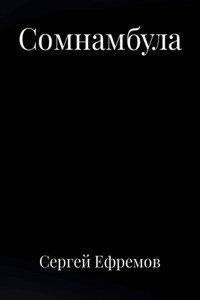История иркутского иняза позорна, как и моя собственная. Находится он в центре города, напротив старой, некогда элитной гостиницы «Ангара», а между ними – широкий, всегда залитый солнцем сквер имени Кирова.
Начнем с того, что иркутского иняза больше нет. В год моего выпуска вуз попал в список неэффективных, после – был расформирован и присоединен к Иркутскому государственному университету. Но когда там училась я, он еще был самостоятельным Иркутским государственным лингвистическим университетом. И состоял из двух зданий: классической советской постройки с колоннами и уродливой серой коробки девяностых годов – с широким остекленным коридором, где мы прогуливали пары.
У Иркутского музыкального училища, студенткой которого я тоже была, дела оказались получше – в нем сделали свежий ремонт и присвоили ему имя Фредерика Шопена. Некоторые студенты мечтали, чтобы училище стало называться «Шопеновка», и пытались внедрять это название в свою речь. Но звучало так искусственно, что никакая «Шопеновка» не прижилась – училище продолжили называть просто, по-свойски: «учло». Учло расположено на самой красивой улице Иркутска – Карла Маркса – среди витиеватых домов девятнадцатого века, делающих центр Иркутска немножко похожим на Питер. Много моих знакомых иркутян предпочло переехать после учебы в Питер: считали, Иркутск – это его демоверсия.
Я училась в этих учебных заведениях одновременно. Их соединяла короткая тенистая улица Сухэ-Батора, по которой я курсировала по несколько раз в день взад-вперед.
Иркутский иняз я просто ненавидела. Пары не вызывали у меня ничего, кроме раздражения. Мне хотелось переводить художественную литературу, но нам сказали, что такому учат только в Москве. Экономический, юридический и деловой перевод, которым мы занимались на семинарах, меня не интересовал, – на лекциях я дремала или рисовала в тетради каракули.
Но если в инязе у меня были друзья, с которыми мы могли сочинять каламбуры и зависать в буфете на переменах, то в музыкальном училище я чувствовала себя одинокой и по-настоящему несчастной. Педагоги на нас кричали, упрекая в бездарности и бестолковости, и обращались на ты. Доставалось нам и за внешность: мне говорили, что у меня ноги-тумбочки и зуб как у Бабы-яги, что я уродливо смотрюсь на сцене. После этих слов мысли бросить училище и забыть о нем как о кошмарном сне становились все навязчивее. Однако, включая в плеере «Патетическую сонату» Бетховена и разучивая новый романс Чайковского или Римского-Корсакова, я тут же передумывала бросать музыку. Я так долго добивалась остроты слуха, отлаженности и звучания голоса, что было бы больно дать этому пропасть просто так. В коридоре училища кто-то нацарапал «Шуман», и каждый раз, когда эта надпись попадалась мне на глаза, я думала: музыка вечна и я буду любить ее, несмотря ни на что.