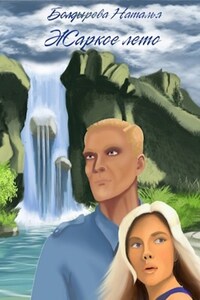Пыль, поднятая машиной, медленно осела на придорожную траву. Элайра заглушила двигатель, и в салоне воцарилась та оглушительная тишина, какая бывает только в самых глухих уголках Ирландии. Она не сразу вышла, сидя за рулем и глядя на каменный дом под темной соломенной крышей. Он казался игрушечным на фоне огромного неба, затянутого в тот день в серые, стеганые одеяла туч.
Пахло здесь всегда одинаково – влажной землей, дымом и чем-то неуловимо горьким, что Сионнах называл «дыханием вереска». Это был запах из ее детства.
Она потянулась за сумкой на пассажирском сиденье, и ее пальцы на мгновение коснулись коробки с дорогим чаем из магазина в Дублине. Глупость. Сионнах пил только свой собственный сбор, гордый, терпкий напиток, от которого она в детстве морщилась. А теперь его некому было собирать. Эта коробка была попыткой привезти с собой кусочек привычного мира, но здесь, в Гленморской долине, он казался чужеродным и бесполезным.
Элайре О’Брайен было двадцать пять, но взгляд у нее был какой-то потухший, будто от долгого смотрения в одну точку. Такое бывает, когда человек годами носит в себе тяжесть, с которой не в силах справиться. Это горе, неподъемное, как мешок с камнями, сгорбило ее плечи и поселило в ее глазах, цвета прохладного моря, несвойственную им суровость и неизменную печаль. Ее рыжие волосы, обычно собранные в безупречную библиотечную прическу, сейчас были стянуты в небрежный хвост, откуда выбивались яркие, непокорные пряди. Миловидное, по-девичьи мягкое лицо часто застывало в маске отстраненной задумчивости. Она была реставратором книг, и ее руки – тонкие, ловкие, с облупившимся лаком на коротко остриженных ногтях – привыкли к ювелирному труду, к воскрешению ветхих страниц. Но сейчас эти умелые пальцы слегка дрожали, когда она нажимала на скрипучую железную щеколду калитки.
Дверь податливо поддалась, и Элайру обнял знакомый, густой воздух – пахло древесной пылью, остывшим пеплом и сладковатой затхлостью непроветриваемого помещения. Дом будто выдохнул навстречу ей это семилетнее затишье. Половицы под потертыми коврами скрипели на тех же самых, памятных с детства местах. Все замерло в точности, как тогда: массивный дубовый буфет, пожелтевшие фотографии в рамах, холодный, черный зев камина.
Она провела пальцем по столешнице, и на слое бархатной пыли осталась четкая, темная полоса. «Надо бы убраться», – мелькнула в голове привычная, пустая мысль. Но она знала, что не сделает этого. Поддерживать здесь чистоту и порядок казалось кощунством – словно бы стереть тонкую, но единственную пленку, связывающую ее с прошлым, уничтожить последние материальные следы той жизни.