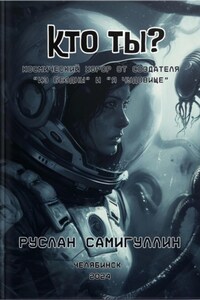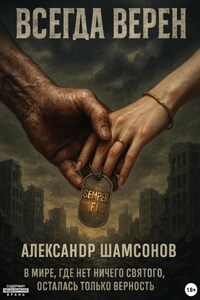Пролог:
Я лежу в тишине. Не той, что предшествует шуму, а тишине после. Тишине выжженной пустыни, где даже эхо померкло в пучине. Она не просто окружает меня – она просочилась внутрь, заполнила каждую трещинку сознания, вытеснив даже мысль о звуке. Мой слух, словно последний уцелевший механизм в заброшенном городе, наполняет ровный, бездушный гул. Это не один звук, а симфония механического безмолвия: мерное шипение кислорода, монотонное пиканье кардиомонитора, ставшее саундтреком к моему закату, глухое гудение чего-то большого и холодного за стеной. Их голоса, врачей, доносятся сквозь этот гул, как сквозь толщу воды. Они лишены тембра, эмоций, индивидуальности – лишь отдаленные, искаженные обрывки фраз, словно эхо, пойманное в пустой, гигантской раковине: "…показатели падают…", "…поддерживающая терапия…", "…семья уведомлена?". Слова теряют смысл, превращаясь в абстрактные звуковые волны. Больничные стены, ослепительно белые, как страницы, оставленные под палящим солнцем вечности, начинают терять форму. Края расплываются, цвета выцветают в одно матовое, безликое сияние. Они плавятся, словно воск от невидимой свечи, стекая вниз невесомыми каплями света, превращаясь в бесформенное, пульсирующее марево. Реальность отступает, уступая место этому призрачному свечению.
И тогда начинается главное. Каждое биение моего сердца – не пульс жизни, а удар тяжелым молотом по хрупкому, ледяному стеклу. Тук. Трещина. Тук. Трещина множится, ветвится, как паутина смерти. Тук. Стекло стонет, крошится по краям, но не разбивается. Я чувствую, как внутри меня что-то неумолимо выключается. Системы отказывают одна за другой, как фонарики в тонущем в пучине корабле. Сначала уходят запахи – антисептик, лекарства, сладковатый запах тления под маской кислорода – всё растворяется в стерильной пустоте. Потом осязание – я больше не чувствую тяжести одеяла, холода капельницы в вене, прикосновения простыни. Моя плоть становится невесомым призраком. Затем вкус – металлический привкус страха, сухость во рту – все исчезает, оставляя пустоту.
Зрение держится дольше всех, цепляясь за ускользающий мир. И тогда – вспышка. Не яркая, не болезненная, а абсолютно белая, как чистый лист в самом начале. Она заполняет все, стирая марево стен, тени врачей, мерцание аппаратов. И в этот миг абсолютной, ослепительной белизны приходит не страх, а холодное, кристальное понимание: это не падение вниз, в темноту. Это падение вглубь. Вглубь самого себя, в ту бездну, что всегда была под тонким льдом сознания. И лед этот треснул.