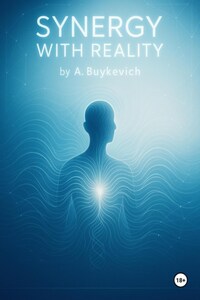Не тот, кто умер, а тот, кого забыли
Это был не замок. Это была библиотека, слишком старая, чтобы помнить своё имя.
Полки, как готические кости. Книги, как могилы мыслей. Паутина свисала с потолка, словно наброски забытого плана мироздания.
И среди этого книжного кладбища обитал Он.
Не мертвец, но и не живой. Призрак предисловия.
Звали его – Гутен Штрасс фон Букгенбен. Бывший библиотекарь, ныне – цепной дух, осуждённый вечно бродить меж томов, которые никто не открывает.
«Тот, кто не был дочитан, не может покинуть эту строчку…»
Он не пугал. Он звенел. Цепями из сломанных цитат.
Фразами, вбитым в плоть.
Запятыми – вместо крови.
Каждую ночь он пытался вспомнить, за что был проклят.
Возможно, за то, что переписал историю.
Возможно, за то, что сохранил истину, когда требовалось её сжечь.
А может – за то, что вырвал страницу из чужой судьбы, чтобы вставить её в свою.
Стук.
На лестнице.
Шаги. Детские.
Кто-то пришёл.
Он – не читатель. Он – случайный свидетель. Мальчик.
И библиотека затрепетала:
"Внимание – единственный способ воскресить забытое."
Он не знал, когда впервые надел их.
Может, в тот день, когда вычеркнул первую правду из школьного учебника.
А может, когда поставил запятую – там, где должна была быть точка.
Цепи были не из металла.
Они состояли из недочитанных строк,
из слов, вырванных из контекста,
из цитат, которые использовали не по назначению.
«Истина не нуждается в кавычках», – гремела одна из звеньев.
Другое повторяло:
«Читатель – лишь временный владелец смысла».
Третье, шипя, утверждало:
«Цензура – это выбор страха».
Каждое звено – чья-то мысль,
переиначенная, исказившаяся, забытая.
Их было тысяча.
Может, миллион. Он не считал.
Когда он двигался – они отзывались эхом.
Звяк… звяк… звяк…
Как будто всё человечество шептало:
«Я хотел бы быть понятым… хоть раз».
Иногда он пытался сорвать цепи.
Но стоило вырвать одно звено – из него вытекала история.
И он вспоминал момент, который не должен был помнить:
как женщина в старой типографии тихо плачет над отредактированным письмом мужа,
как мальчик сжигает дневник, чтобы никто не узнал, что он чувствовал,
как министр вычёркивает имя из доклада, чтобы сохранить власть.
Он носил их не как наказание.
Скорее, как напоминание о цене смысла.
Каждое слово может стать якорем.
Каждая цитата – клеткой.
В этой библиотеке он был тюремщиком собственной памяти.