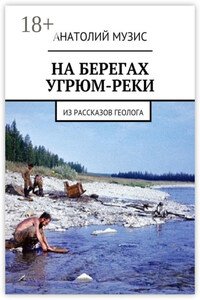"Олег, кинь станок, пожалуйста!" – послышалось где-то в глубине цеха. Все прислушались. И правда, послышалось. И только станок безмятежно парил в воздухе, чертя на полу причудливые тени, напоминавшие зайца и куст черноплодной рябины. Капли свежего машинного масла стекались в небольшие лужицы на свежеприобретенной черепно-мозговой травме Санька.
В этот момент как-то неожиданно по-будничному прогудел свисток, а это значило, что сейчас куча потных мужиков и теток попрутся в душ. Потом будет толкотня на проходной и очередная облава на заныканную в недрах чьей-то телогрейки контргайку двенадцатого радиуса. Только Санёк оставался спокойно лежать в углу цеха, в луже теплой красной жидкости. Его раскрытые глаза изучали строение станка снизу. Ни радости, ни удивления они не выражали. Саньку было глубоко насрать и на станок, и на глобальные проблемы пролетариата, ибо он уже был далеко, и ему было хорошо, как, собственно, любому, пребывающему там, где был Санёк.
Красная жидкость пахла портвейном и сигаретами "Друг". Это было объяснимо, вряд ли у Санька в крови могла быть кровь. «Часы "Полет" ему, кажется, тоже уже ни к чему» – подумал Егор, бывший друг Санька, который задержался в подсобке, чтобы добить тот проклятый ящик водки, который никак не добивался вот уже 40 минут. Он снял часы, рыгнул (воздух вокруг обогатился густым запахом перегара), поссал в углу и поплелся домой к своей толстой, но любимой жене, чтобы попросить добавки жареной картошки, а потом уснуть в ее огромных, с возрастом вялых и обвисших, но таких родных сиськах.
И только Иван Авраамович Сидоренко, старый козел (по словам уборщицы Элеоноры Павловны), ничего не слышал и не видел. "А мне похуй", – как обычно, резюмировал он засунув палец в банку с кильками. Кильки запаниковали и разбежались. Но, кроме Ивана Авраамовича, бегство килек никто не заметил. Он вообще видел много того, чего не видели остальные. Иван Авраамович работал на заводе алкоголиком, и за должность свою очень держался, ведь желающих подсидеть его на столь теплом месте было предостаточно – на эту должность претендовал буквально каждый второй.
В это время знойная кассирша Любаша, каким-то раком мозга почувствовавшая запах свежего портвейна, спокойно расписалась за Санька в зарплатной ведомости, почесала и без того расчесанную подмышку, улыбнулась и запихнула мятый трешник в позавчерашний бюстгальтер. Любаша действительно была знойная женщина, она очень любила почесывать подмышки и промежность, пока (как она считала), никто не видит. Еще она любила секс. И хотя уже давно не помнила, что это такое, не упускала случая рассказать выдуманную историю из своей половой жизни в разговорах с молодыми подругами. Также она обожала мед и желуди.