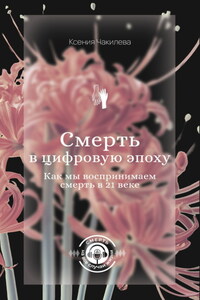Я дарю ей букет цветов, и она начинает плакать. Слезы текут медленно. Мы стоим на нашей кухне, в окружении предметов, которые вместе расставляли, полка за полкой и шкаф за шкафом. Моя подруга Д., с которой мы вместе чуть более пяти лет, берет цветы и, всхлипывая, подрезает стебли, негромко, но твердо стуча ножом по доске.
Боясь того, что будет дальше, я смотрю на холодильник, на фотографии общих друзей, которые за эти годы поженились, на объявления о рождении детей, которые уже знают, как нас зовут, на жизни, частью которых мы являемся. (Иногда мы фантазируем о том, как однажды наши фотографии тоже будут висеть на чьем-то холодильнике.)
Д. говорит, что в последние недели чувствовала себя потерянной. Хотя она прямо меня не обвиняет, все же очевидно: в этом виноват я. Мне стыдно слышать ее рассказ о моем поведении, ведь нет анамнеза более ясного и болезненного, чем анамнез, составленный возлюбленной. По ее словам, я плохо сплю, много нервничаю и требую ее внимания, боюсь каждой встречи с чужими людьми. Когда я выхожу на улицу, то как можно глубже натягиваю капюшон толстовки. Ночью у меня стучат зубы, а утром просыпаюсь напуганным, весь в поту. Когда она встает с кровати, я всегда пытаюсь убедить ее полежать еще немного, и еще. Только к вечеру мне хорошо, потому что я пережил еще один день и, видимо, думаю, что заслужил награду.
Но я же живу и работаю, как все?
Она думает, что нет.
– Я же хожу на разные встречи, не так ли?
– У тебя каждый день панические атаки, как только ты выходишь из квартиры.
– Что ты слышишь?
Она закатывает глаза. Знаю, что Д. слышит мое тяжелое дыхание, и она знает, что я это знаю. Может быть, я все еще надеюсь, что она выйдет на лестницу подбодрить меня, а может, просто ничего не могу с собой поделать. Или притворяюсь?
– По-моему, ты даже в свой кабинет боишься войти.
Она права. Я слишком долго жил работой. Эйфория от вовремя выполненных дел, этот прилив дофамина заставлял меня вновь и вновь браться за новые дела. Но, даже поняв, по какой схеме я живу, не захотел ее менять, а, наоборот, взваливал на себя еще больше работы. В итоге в один прекрасный день (несколько месяцев назад) я вообще перестал делать что бы то ни было. У меня не было ни новых планов, ни идей, но я не чувствовал ни покоя, ни даже скуки. Не мог ни сосредоточиться, ни расслабиться. Мои дни наполняли инерция и безделье, не успокаивавшие, а, напротив, истощавшие меня. Друзья, жившие стабильной, упорядоченной жизнью, предлагали хобби вроде рубки дров или случайных подработок, а потом выжидающе смотрели на меня. Я не хотел обсуждать свои чувства и мало разговаривал в компании, так как считал все остальные темы для разговора банальными или даже фальшивыми. Д. все больше раздражало, что люди не видели, «какой я хороший», и в какой-то момент она сама перестала это говорить.