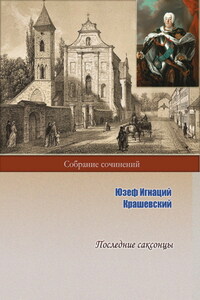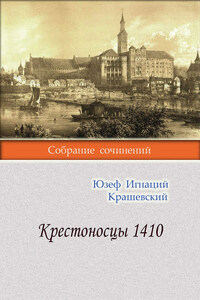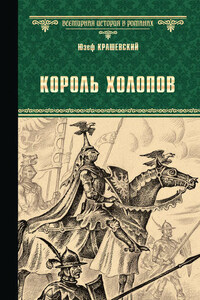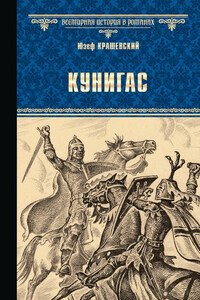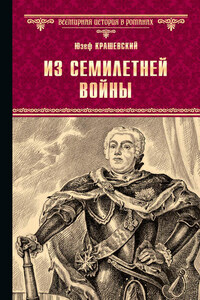1763 год начался со страшного шума и грохота пушек в Несвижском замке. Одни за другими давали огня, заряжаемые до отказа, зажигаемые среди криков, обливаемые бокалами вина, которые рядом с ними так неосторожно наливали, что несколько смельчаков задели за пушки и повалили их.
Не меньшим шумом приветствовала Новый год Варшава, в которой сидел еще Август III, но ему уже улыбалось возвращение в любимый Дрезден, о котором он мечтал и грезил.
По правде говоря, его королевское величество мало заботило, что истощённая Семилетней войной Саксония просит сострадания и милосердия, что в Польше обрывались сеймы, порядка не было, царили своеволие и анархия, что Брюль продавал всё, что хотели у него купить, а партии в Короне и в Литве, казалось, объявляют гражданскую войну. Брюль с одной стороны, Чарторыйские с другой, Флеминг и Радзивиллы съезжались, стрелялись, осуждали друг друга на трибуналах в бесчестье, мирились и ссорились, а как изрядно тем временем развлекался король, известно всем.
После бесчисленных любовниц, которых старательно при Августе II тянули в хронику, равно как многочисленное потомство, сын, который наследовал все его вкусы и привычки, напрочь отказался от метресс.
Напрасно его пытались склонить, чтобы, как Людовик XV после Людовика XIV, он также, поступая по примеру своего предшественника, выбрал себе какую-нибудь Козель или Любомирскую.
Он был слишком набожен, чтобы пятнать себя прелюбодеянием, потом имел чересчур ревнивую жену и умного управляющего совести, который сумел предотвратить, чтобы страсть не выплескивалась за берега. Что-то потихоньку говорили, громко ничего не было.
Король упивался чудесным голосом Фаустины, слушал её приказы, но… но она правила только в театре… Впрочем, было Августу чем заменить умственные наслаждения, не нуждаясь в сокрытии: не стыдился страсти к охоте, любви к музыке, привычки слушать грубые и едкие шутки своих шутов, актёров и любимцев, любви к картинам, почитания Рафаэля, симпатии к «Кающейся Магдалине», наконец влюбленности в ту трубку, с которой ещё Август II ездил по Лейпцигской ярмарке.
Все плохое, жестокое, грустное, отчаянное… падало на плечи любимца, Брюля; он поднимал всевозможные тяжести, он глотал все горечи, он должен был отвечать перед потомками. У двери его королевского величества стояла стража, которая, когда он раз надевал шлафрок, не пускала никого, кроме отца Гварини, министра Брюля, королевы и позванной службы.