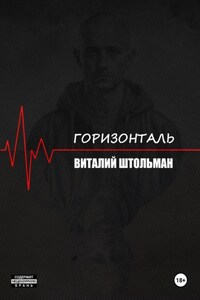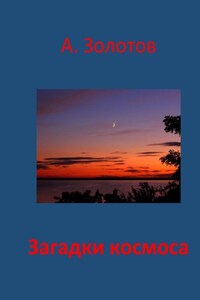Нас с Лёвчиком за его дебош навсегда исключили из Люберецкого клуба ценителей высокого искусства. Я как бы ни при чем, это все мой друг, решивший кулаками доказать превосходство своих литературных предпочтений, но кто бы разбирался. Табу паровозом прицепили и мне! На фоне творческого голодания Лёвчик однажды выдал мне: «А поехали к Чехову на дачу!» А почему бы и нет? Там я никогда не был, да я, собственно, вообще нигде не был, кроме Тарханов, куда меня занесло по довольно-таки странному стечению обстоятельств. Помнится атмосфера сего места, пропитанная особой энергетикой, что не случайно, ведь частичка Лермонтова витает в воздухе. Пруды. Кирпичные дорожки. Роща. Старые дома. Сохранившийся его кабинет. Спальня. Когда-то здесь бегали маленькие ножки Мишки и хаживали отполированные сапоги Михаила Юрьевича.
После такого заряда я написал кое-что сильное. Меня даже в какой-то там список престижной премии взяли. Я особо туда не стремился, ибо отправил на шару. А что? А вдруг! И вуаля… оценили! Так что проникнуться духом Антона Павловича показалось мне вполне приемлемой авантюрой на фоне моего затянувшегося творческого кризиса из-за праздника души, вылившегося в продолжительный запой на фоне проигрышных результатов амурных войн. Женщины умели трясти мою душу так, что аж жить не хотелось. Если у брошенной дамы остались чувства, то она превратит в ад жизнь своего бывшего. Его ждут истерики, мольбы, угрозы расправы, снова мольбы, признания в любви, признания в ненависти. Люди истерят лишь для того, чтоб обратить на себя внимание. Театр одного актера будет работать до тех пор, пока зрители не догадаются, что хотел сказать автор пьесы. Можно было просто поговорить, но одни испытывают каскад проблемного эмоционала в издании звуков, другие – в приеме. Так и живем, смешивая спектакли. Театральный сезон закончился, а пустота в душе осталась, ее стоило чем-то заполнить.
Всего-то девяносто километров – и ты в Мелихово. Если, конечно, ты на машине. А один автомобиль и одни права в нашем тандеме были, правда, на двоих. Лёвка – вечный лишенец со старой вишневой «девяткой», а я пешеход, но с правами.
«Решено!» – как-то заорал я, ударив по столу так, что пустые стаканы попадали, а огуречный рассол бунтарски вырвался наружу, растекшись по старому лакированному столу, оставшемуся от бабки в наследство.