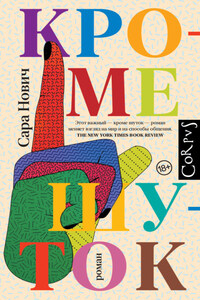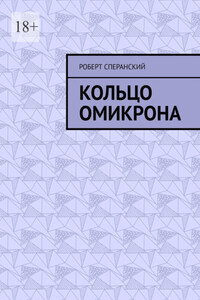Фебруари Уотерс было девять, когда она – посреди урока математики, на глазах у всех – воткнула себе в ухо “тикондерогу” номер два. Учительница писала мелом на доске таблицу умножения на двенадцать, поэтому у Фебруари появилась возможность заточить карандаш, скрежет которого привлек внимание витавших в облаках детей, и их взгляды устремились на нее, пока она шла через весь класс к учительскому столу. Фебруари неловко влезла на вращающееся кресло с тканевой обивкой, потом взобралась на стол, расставив ноги пошире, и всадила карандаш глубоко в левое ухо.
Класс дружно ахнул, и это вывело завороженную доской учительницу из задумчивости. Она сняла Фебруари со стола – кровь шла сильнее, чем учительница ожидала – и взвалила ее себе на плечо; всю дорогу до медицинского кабинета за ними тянулся тонкий алый след.
Вытащив грифель и определив, что рана поверхностная, медсестра остановила кровотечение и отвела Фебруари через холл в кабинет директора, где секретарша подготовила приказ об отстранении от занятий за “агрессивное и буйное поведение, неподобающее ученику”. Потом, едва только было решено, как именно связаться с родителями Фебруари, ее отправили домой на неделю.
Одноклассники Фебруари, оставшиеся в кабинете 4‐Б, провозгласили ее героиней, собственной кровью купившей им двадцать пять минут безнадзорного блаженства. Администрация школы, напротив, сочла этот инцидент криком о помощи, учитывая “семейные обстоятельства” Фебруари, как их называл директор. На самом деле, объяснила Фебруари отцу, когда он приехал за ней, она совсем не злилась, а просто устала слушать таблицу умножения, жужжание лампочки в разбитом плафоне над партой и скрежет металлических стульев по полу. Он не знает, каково это – постоянно что‐то слышать, сказала она. И с этим он поспорить не мог.
Окончательно Фебруари сорвалась, когда Дэнни Браун, сидящий у нее за спиной, прокричал нараспев: “Февралька-вралька, желтый снег пожуй давай‐ка!” Только глухие люди могли назвать свою дочь Фебруари, подумала она тогда. Названия некоторых месяцев были вполне приемлемы в качестве имен для девочек – Эйприл, Мэй, Джун, – а ее родители явно что‐то недопоняли в этой традиции. С другой стороны, они всегда предпочитали зиму, безмолвное великолепие снега, укутывающего чинкапинские дубы, а красоту в кругу глухих, где росла Фебруари, было принято ценить. Друзей ее родителей безвкусица не смущала, и Фебруари никогда не замечала, чтобы кто‐нибудь из них иронизировал над ее именем. Ей не хотелось уходить из этого круга и уж тем более менять его на такую враждебную среду, как четвертый класс.