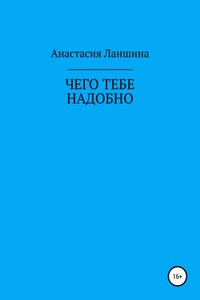под ливнем свинца.
на нас. До конца слегонца,
дело деется.
сидит у окна – одна.
нас болтало, мотало на ржавых качелях безвременья.
и размазало в хлам.
в беззаботное верное доброе книжное детство.
Повтори, если помнишь, простое «гори, но живи».
Зло отступит.
Они не горят.
Безгрустно и безрадостно. Никак.
Нас покрывает помутневший лак,
как восковые лица на картинах,
которым имманентна немота.
Закат не освежает. Духота
ломается на самой середине,
скрипит во рту, как рыбья чешуя.
Глотаем лето целым, не жуя,
из ракушки, наполненной ликёром
вечерних подворотен и теней,
что кромку мира делают синЕй
и от небес отчёркивают Город.
Над крышей неберлинская лазурь:
я не умею – сможешь? – нарисуй
обоих нас, счастливых и беспечных.
И мы проступим через много лет —
две тени, уходящие в рассвет,
где Город, и любовь, и лето вечны.
* * *
Россия дремлет в меркнущем овраге
у дамбы на изломе января.
Мелькает снег из резаной бумаги
в лимонно-жёлтом свете фонаря.
Ночь не нежна, она груба, как выкрик,
полным-полна сосущей пустоты.
Ложись в снега, укройся ими, выспись,
забудь, кто ты,
забудь врагов – им вскоре будет пусто,
забудь друзей по счастью и беде.
По гулкой черноте шагает путник
в заснеженное русское нигде.
Вертинский спит. В холодном лазарете
клубится недоступная весна.
Я напишу на голубой комете,
как на ракете:
«Дальше – тишина!»
* * *
Мне снова девять, календарь соврал,
в моём мирке никто не умирал,
не уходил – ни в гору, ни под гору,
не опускали в мёрзлое гробы,
не шли в атаку осенью грибы,
старухи не шептали: «Это к мору!»
Я падала в болезнь, как в полынью,