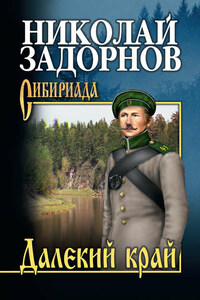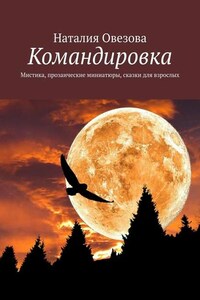1
Поздним озимым всходом появился мальчик среди бескрайних полей Сибири. В неделю отроду случилась кромешная метель, – стенка на стенку – сотрясая бревна сельского роддома.
Белым филином ухал ветер над трубой. Надсадно гудели печи. Чертыхался огонь, пуская угарные змейки из поддувала. Младенец сонно вздрагивал и отворачивался от плененного снегом окна.
Иногда, под вечер, приподнималось розовое веко-облако над воспаленным солнечным глазом. Сторож чистил снег на крыльце, протаптывал кривую тропинку в сторону дровяного сарая. За осевшей калиткой дорога почти сравнялась с чистым полем. Бессонный ветер взбивал на ночь белые подушки стожков.
В складках туч обнажалась, как материнская грудь, крупная розоватая луна, сцеживая в морозно звенящую чашу долины ненужное голубоватое молочко.
Опять дрожали стекла. Новая метель приходила со степного края – сердитая, задиристая, одичавшая, на сотни верст не встречавшая себе преград. А утром дверь с крыльца подпирал захрясший сугроб. За лесом проглядывал тусклый рассвет, серебривший наметы на крыше роддома.
Лицо в белой шапочке на подушке – словно утренняя луна – лишняя, ненужная, угасающая. Ребенок приоткрывал мутные глазки, не узнавая других звуков, кроме воя пурги. И она по-своему пеленала квелого мальчика: он дышал все туже воспаленной грудью и все неохотнее выбирался из млечного забытья.
Мать путала дни и ночи. Какие-то люди, стряхивая наспех снег в коридоре, все ближе подпускали к сыну ледяные пальцы воровки-метели. Врачи боролись несколько дней, а потом уж и в город везти было поздно…
В тумане слез обезумевшей женщины возникла икона – божьи соты – золотой мед капал в больничный таз с синим номером на боку. За пазухой, на голой груди, теплая бутыль: «Святая вода, дочка! Из города привезла!» (Намаялась в поезде не меньше, чем с поросенком-оторвышем в мешке.)
Растерянно стояла молоденькая врач, россыпь мелких родинок по лицу, словно коричневые созвездия: «Только делайте это быстрей! Не дай бог, узнают…» Мать всем мешала, оглохшая от горя: «Не слышу его. Что с ним? Почему он молчит?..» За дверью с белой занавеской чужие люди склонились над желтой огненной сердцевиной, распеленав мальчика, словно оборвав лепестки ромашки. «Вы-то согласны? – всплыло путеводное лицо. – Говорите мне!» Зачем спрашивать, если это последнее, что может спасти сына: «Дайте его! Отдайте сына! Он жив??!» Врач тронула пальцем воду в тазу: «Жив, жив, не кричите…»