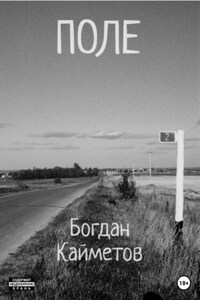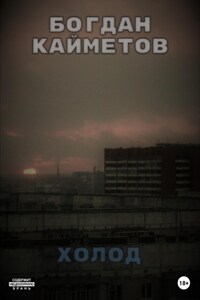То ли в силу пережитой за время детства эмоциональной привязанности, то ли в силу моих сельских корней (коими в меня протянулись родители, прожившие в деревнях до плотной юности), любое предстоящее в деревне событие, заставляло меня отбрасывать все дела, будь то поиск работы или сессия, и напрашиваться в компанию, с направляющимися туда городскими участниками намеченных событий. У мамы и дяди, должны были пройти какие-то встречи то ли одноклассников, то ли учащихся той деревенской школы, что была в трех километрах от той деревни, в которой выросли мама и дядя, и в которой, по совместительству, прошло и мое ежелетнее детство. Пока мы собирались выезжать, пока добирались до празднующей деревни, (это около двух ста км) наступил уже обед. А в силу заведенных в деревнях традиций, где принято проводить все заранее и до наступления темноты, то празднества там уже начались к нашему приезду. Дядя с мамой, посоветовавшись, решили сразу присоединиться к торжеству, а меня планировали оставить сидеть в машине. Ну да, ага, именно для этого я взял пачку сигарет, лежавшую уже месяц под кроватью с дня рождения Коляна и зарядил флэш мп3 плеер, закинув туда всю самую любимую грустнятину, чтобы сидеть три часа в машине. Коротко дав понять маме, что до нашей деревни 3 километра по прямой, и что я устал от города и пройтись в одиночестве для меня только за удовольствие, я хлопнул задней дверью и пошел, вдоль по деревне, к основной дороге, попутно уже доставая наушники. Первый километр, по одинокой разбитой асфальтовой дороге, несмотря на любимые грустные песни в плеере, навевал лишь приятные воспоминания о детстве, в котором мы заезжали сюда на велосипедах воровать кукурузу или просто так вечером, ради развлечения. Какие это были теплые и радостные детские времена, времена беззаботности, времена каникул, что казалось никогда не закончатся и всеобъемлющему уюту спокойного летнего заката, за которым придет лишь следующий, такой же родной, обволакивающий парным запахом коровы, вернувшейся с пастбища. Обернувшись и убедившись, что по всей длине распростертой посреди поля ленты дороги никого нет, я достал первую сигарету. Переключил на самую любимую песню, вынул зажигалку и закурил. Так приятно было почувствовать себя, в тот момент, независимым взрослым, уверенно шагающим по своей родине, ещё приятнее было почувствовать привязанность к прошедшим здесь временам детства и отрочества. Вспомнилось, как мы из той же деревни, откуда держал сейчас путь я, шли в три ночи, после дискотеки. Помню, какие только отговорки и сказки я не придумывал, что бы бабушка не переживала. В тот раз я сбежал от нее, сказав, что поеду к тёте в город, а сам с вещами направился к другу в другом конце деревни, просидев у него до 9 вечера, глядя в телик, мы наконец засобирались на дискотеку. Я как мудак с рюкзаком на плече, который к слову пригодился, когда мы затарили туда две полторашки какого-то полу местного пива. К слову, в деревнях никто из продавцов никогда не интересовался даже у 7 летней девочки, куда она покупает три литра водки и три полторашки пива. Люди были деревенские и все понимали, что лето, уборка сена, родители скорее всего еще на поле и просто дали задачу малОй взять к послеуборочному столу алкоголя для помощников. Как таковая схема с оплатой работы, участвующим в ней не была в ходу. Сегодня ты помогаешь соседям, собрать сено с поля или выкопать картошку, они хорошо проставляются, говорят спасибо и даже намека на никакую то коммерческую подоплеку и быть не могло. Не могло, потому что у тебя в поле напротив, столько же сена и картошки. И эти же соседи, завтра, не спросив ни слова, будут помогать твоей уборке. С годами это становилось такой родственной идеологией, что вопрос оплаты чего либо, становился даже оскорбительным, таким же, как вопрос внезапного отказа от помощи или ее оказания. Вот, кстати, тут у этого дерева, мы допили уже на шестерых (от изначально рассчитывающих на эти две полторахи троих) наш алкоголь из моей сумки с вещами. Но это было деревенское родство и честная благодарность, так что по прибытию к клубу, ребята, распивавшие с нами, организовали еще три полторахи для всех нас. Никто не был в обиде… «Здорово было»– я закинул докуренный почти до фильтра бычок в яму на асфальте, что с момента, когда я объезжал ее на велике когда-то в детстве, выросла до глубины целой норы. К слову, даже если бы я промахнулся, то по попал бы в одну из рядом расположенных ям. Да.. асфальт тут не ремонтировался наверное… Я напряг память и смог лишь вспомнить рассказы дяди, как в конце восьмидесятых он, будучи начальником дорожного предприятия, прокладывал здесь первый асфальт… Мысли о разглядываемой дороге так бы и оставили меня в этом возвышенном пребывании о неге прошедших времен, если бы я не отвлекся на поля вокруг этой дороги. Начало ноября, как и вся собственно осень, в Росси, всегда зрелище особенное, то ли связанно это со смертью всего живого, что трепетало из каждого сорняка, то ли от обнаженных и изголодавшихся полей, с которых тянули жизнь все лето колхозные овощи. Остановившись возле очередной ямы в асфальте, я удивился, вдруг, нищете и бездомности истоптанного капустного поля вокруг. Первый ноябрьский морозец, что аккуратно в ночь ударил сегодня, застал как будто врасплох разбросанные ошметки капустных листьев на нем. Замерзшие коркой льда, листья те, да-да те самые верхние и непригодные в пищу, лежали словно какие-то солдаты, в пылу отступления, отставшие от своего отряда и теперь так навзничь распахнутые тут. На некоторых отчетливо видны были следы от сапог собирающих урожай людей. Несчастное поле это простиралось почти до горизонта, на котором обрывалось внезапно и сменялось сине-коричневым фоном, такой же усталой и нещадно просеянной за лето рыболовными сетками, реки. Как это бывает обычно, по первому морозу-легкие летние облачка, что навевали нам загадки о силуэтах зверушек, запрятанных в них, трусливо сбежали еще в начале сентября. А небо, вдруг, непривычно для глаз, обнажилось глубокой космической синевой. И космической она была не от того, что была какой-то особенно красивой и пронзительной, как это бывало июньскими ночами, космической она была лишь благодаря своей бесконечно уходящей в ледяное остолбенение тишине. И какого-то черта стало так грустно за эту замерзшую землю, истоптанную сапогами, размозжённую остатками пиршества летних ее поселенцев, коим она подарила жизнь весной, приютила и дала сил за лето. И по исходу, видела их страшные обезглавленные капустные муки. И ее бы теперь обнять, приласкать, облить теплым дождем, а тут лишь прокопы тракторных колес, да обледеневшее небо, дышащее ей в лицо мертвенно траурной синевой. От всего этого зрелища несчастной земли, вдруг грустные песни в наушниках стали какими-то нелепыми, я сорвал наушники и убрал в карман, остановившись, чтобы достать из пачки еще сигарету. Щелчок зажигалки, в образовавшейся смертной пустоте, как будто отразился щелчком от, вдруг, особенно посиневшего в открывшейся тишине, неба. И голодная, полураздетая и бедная земля теперь так же эхом зашуршала, измученно, под моими возобновившимися шагами. Еще не увидев за спиной силуэта трактора, я услышал его нарастающее клокотание. Еще один раб земли измученной, и ее же беспощадный палач. Со спины он приближался как приближается, наверное, свистом лезвие на плахе. Прогрохоча мимо меня, треском дизеля, пустив трещины по льду я ямках, он свернул в какую-то проселочную дорожку в поле. Закурив наконец, мне вдруг до слез стало жалко их. И палача этого, созданного взрывать несчастную землю из весны в осень, ему ведь бы зашуршать куда ни будь колесами по «м7», посмотреть серпантины в Крыму, завязнуть в гальке черноморского берега. А его вывозят из года в год, кромсать эти гектары вокруг. И поле это-израненное и заледенелое, снова впустило несчастного, затарахтевшего куда-то по телесам истощавшим и голодным, к горизонту истощенной реки-Волги. Да и Волгу несчастную, что даже оттуда, барашками-флагами белыми, махала мне вдаль, махала что сдается, что устала от горизонта неба замерзшего и придавившего ее синим льдом. Да куда уж ей, у нее своего то еще не родилось ни с одного берега, а тут весь космос на нее плетями ледяными обратился. В руке, вынутой из кармана, в след за еще одной сигаретой, вдруг стало так же холодно. Кремень зажигалки больше не поддавался онемевшей подушечке пальца. Я ускорил шаги. Оставаться среди этого сжигающего синевой льда неба, да среди стонущих полей вокруг, стало так неудержимо тревожно. Тревожно столько не от того, что я один, в этой глядящей на меня глазами покойника родине, нет. Да и пусть на глазах ее, вместо монет, брошенные листья капусты и белые корки льда по краям луж выдохшихся. Пусть. Мне одному на этой панихиде даже как-то спокойнее и роднее, чем в любом городском пиру. Нет, переходя в бег, я понял, что онемевшей рукой за зажигалкой лезть в карман нет смысла. Прокурившись от тлеющего во рту бычка, я вновь втянул то, что впервые так интенсивно клубилось в моих легких. Вокруг меня витал, трескающийся от чистоты, родной воздух. Но я, именно перебивал его дымом. Я боялся вдыхать его на столько, на сколько нужно было бы стать этой землей, этим заледенелым синим небом и этим разбитым асфальтом. Но не на столько ли я боялся их, сколько хотел, в слезах жалости, стать и землей этой замерзшей, за которую ухватился бы пальцами, как сироты за мамкину могилу. И небом этим, с поцелуями, к которому, бросился бы в реку, как сын мамин, бросается к отцу, вернувшемуся из тюрьмы. Скинул бы все с себя на бегу в воде, став в брызгах сыном прощающим, принимая порезы на ступнях о ракушки и камни, как кару, воздаваемую за грехи свои земные. И где то вдали от берега, скрылся бы с головой, исчезнув в радости и доброй тоске, обняв их всех, вернувшимся сыном блудным.