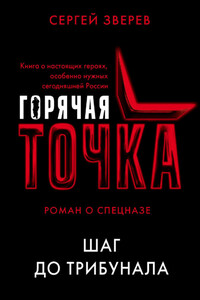Шелест света поник перед мраком,
что несет в себе ночи секрет.
Я забуду, как надо держаться –
будто этого времени нет.
Поле ночи и поле отваги.
Говор света, молчание тьмы.
Я нигде – ни в словах, ни в бумаге,
не пытайся, меня не найти.
Ни однажды, ни снова и снова –
не пойду по прогорклой земле.
Звезды скинут дневные засовы,
обнажив души пленные мне –
в их заветренных воском оковах
не дотронутся кожей руки.
Я теперь, мама, лучше, чем новый.
На меня ты теперь посмотри!
Душе стало невольно и тесно.
Я ее перед сном застрелил.
Там сейчас бесконечная бездна –
что угодно туда положи.
Хочешь листья слысевшей березы,
хочешь стоны октябрьских птиц.
Корни полуприжившейся розы,
чьи цветки облетели уж вниз.
Но тяжелое только не складывай –
не поместится, как не клади.
Ни любви, ни засоленной радости
здесь не будет. Я их отпустил.
Ты не жги за мной в дерне проталины,
я, возможно, вернусь посмотреть
на таких Нас, которыми стали мы.
Так не хочется больше болеть.
Ты дождись, все, однажды, закончится.
Вздрогнем, словно с кошмарного сна.
В бездну, больно прогнав одиночество,
будет снова проситься душа.
Зовет до завтра,
пройтись с ней вечнодремным
путником.
Поет однажды,
но звуки никогда не станут снова
будними.
Их будет вечное
неисчислимое всеневесомое
пророчество.
Я стану млечная.
Я буду гнуть свое неверно
одиночество.
Мне не отвергнется.
И солнце станет умолять о
непрожжении.
А ночь, как девственница,
не улыбнется, когда будет
продолжение.
Я мальчик голенький,
Все неустанно повторяющий
невинное.
Я власть непомнящий,
через закон переступающий,
как глиняный.
И время медное,
как стон ударится внахлест
об облачное.
Подруга медленная,
только теперь узнала, что она –
заложница.
И дождь окаянный,
залил всю осень, и всю ночь
до памяти.
И сверхъотчаянный
теперь мой стон впитает все моря
и камни.
Я буду новыми
ходить шагами по земле
и воздуху.
А звезды сорваны.
Приказом одинокого гонца
и посохом.
Любовь и трон,
в котором каждый усидеть
стремится,
увидят сон.
Там белый лед на ярко-желтых отрывных страницах жизни –
болезнено искрится.