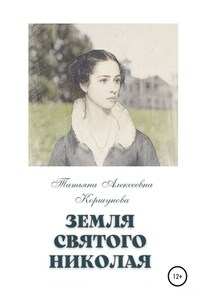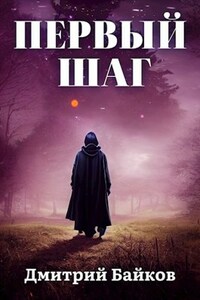Милый Дмитрий!
Ты спрашиваешь мнения моего насчёт поступления в Московский университет. Что до меня, то я не могу быть с тобою солидарен. Сам я получал образование дома. Ты знаешь: все эти экзамены, обязательства ежедневных посещений, – это всё угнетает меня. Да и общество я не люблю. Если же тебе претит именоваться недорослем, я препятствий чинить не собираюсь и отговаривать не стану. Но если, как пишешь ты, какая-то там соседка сказала, что так правильно, то здесь я, как старший брат твой, взываю к личному твоему влечению. Твоя жизнь – твоя воля. Только твоя. Ни семья той, с кем ты намерен обручиться, ни кто иной – законы на скрижалях не писали.
Обнимаю крепко.
Василий Шешурский.
Иннсбрук. Июль, 1815 год.
Действительный студент, выпущенный из Московского университета, перечитывал письмо в дорожной карете. Прыгающий почерк брата с небольшими, приземистыми буквами пропечатался на обратной стороне листа. Бумага от времени засалилась до прозрачности – три года носил Дмитрий это письмо в кармане.
Солнечным апрельским утром 1818-го года он возвращался домой, в родовое имение. Английский романтизм тогда уже распылялся по Европе. Байрон в Венеции писал «Дон Жуана», первый денди Джордж Браммел трудился в Париже над «Историей костюма». Между тем лондонская общественность четыре месяца зачитывалась историей доктора Франкенштейна – романом ужасов какого-то неизвестного автора, а умные критики давили угасающего Джона Китса.
По Европе распылялся английский романтизм. И там по сей день жил брат.
Двухколейная дорога тонула в сочной еже, ракитовые ветки всею гущей кланялись коням. Уезжал Дмитрий парой – возвращался тройкой. Смешанным лесом заросло старое кладбище. Он снял чёрную шляпу, перекрестился: у того большого тополя торчали из-за оградки два гранитных креста. Могилы родителей – ухаживал ли за ними кто?
И вот лесное щебетание жаворонков пронзилось пением петуха. Деревня! В зелени одичалых яблонь сверкнула серая крыша. Старый двухэтажный дом. Тесовый. Деревянное крыльцо, резные наличники с капельками застывшей смолы. Невесёлые окна – будто ослепшие глаза. Жива ли нянюшка Февронья? Жив ли дядька Асинкрит?
***
За раскрытыми ставнями кухонного оконца собиралась зацветать груша. Там жужжал шмель. А внутри шаркали старческие шаги.