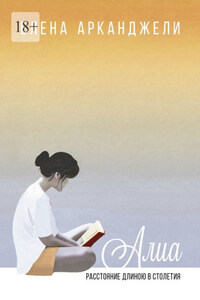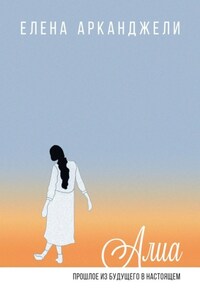…Эла-а-а-а-а… Эла-а-а-а-а… нет, нет, не-е-ет…
Мое нейтральное расслабленное я наблюдает за метаниями молодого мужчины по скользкому рваному краю разверзшейся в скале пропасти. Я чувствую его яростное отчаяние, страх и упорное ожидание вот-вот увидеть ее нежное, родное, улыбающееся лицо… Эла-а-а… Эла-а-а… Душераздирающе озвученное женское имя гудит в пространстве, подбирается ближе, просачивается в мою грудь, перехватывает воздух в горле…
Вдруг, как свет в комнате, включается осознание. Да это же я! Это я, скрученный отчаянием, неистово кричу навстречу потоку ледяного ветра… это за внутренние стенки моей груди из последних сил цепляется надежда… Эла-а-а… Спасительная судорога в ноге рвет нить между ясной, мучительной реальностью сна и потной, удушающей ясностью бодрствования. Безвозвратно… рука жестко трет судорожную икроножную мышцу, а в уме стоит лишь одно слово… Безвозвратно…
Сегодня шесть месяцев и три дня после того происшествия в горах. Я чувствую «тяжелое ничего»… это, наверное, самое правильное определение тому, что с помощью нейрофизиологических манипуляций современных гармонизаторов пришло на смену отчаянию и ярости. Мое состояние – это состояние контролируемого погружения в эмоциональный нуль, которое понятным образом необходимо для адекватного, а главное, гуманного принятия того, что во имя моего же блага я должен суметь принять. Я чувствую себя как «свой собственный сосед». Все происшедшее с его неумолимостью и острой болью живет за стенкой. Я знаю, что это было, я помню осознание рваной раны в моей груди, но все это осталось в соседней комнате и не может тронуть меня…
12 апреля 2572 года, 4:17 ночи
Как всегда перед традиционной ежегодной вылазкой на плато весенних цветов, я практически не сплю. Эла – звонкое имя, изящный женственный силуэт, бездонные карие глаза и по-детски приоткрытый рот. Ничего особенного, думаю я. Все особенное, отвечает мое внутреннее эхо, и эта мысль растекается мягким теплом по всему моему телу.