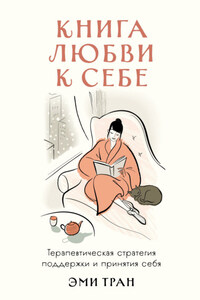В разную пору жизни мы поднимаем именно те паруса, что способны выдержать порывы наших устремлений. Движимые вперёд бурями желаний или страстей, они полны ветра, словно решимости доставить по назначению, да только не всякий раз, причалив к нужному берегу, мы переступаем с шаткой палубы на уготованный нам берег. Мечты прожорливы, капризны, требуют неустанного труда и внимания. Их нужно пестовать и баюкать, уговаривая не опускать рук, не оставлять начатого, а убеждая в неповторимости, умалять заодно все до единого волнения и страхи, не оставляя им ни малейшего шанса. И ведь может статься, не сдержишься однажды, наговоришь лишку, хлопнешь дверью, после чего, – либо всё заново, или вовсе, – пропало дело. Куда как безопаснее, лавируя промеж грёз, без устали подавать надежды себе и другим, многозначительно и загадочно улыбаясь при этом. Дескать: «Я бывалый моряк, мне ли не знать всех мелей, да рифов…» А что, кроме серьги в левом ухе и сорванного хрипатого смеха, у него за душой ничего, так про то как-то неловко, не то, что упоминать, но думать даже. Старается, всё же, человек…
Так – добро бы оно эдак, а то ж всё больше обетов, нежели надсады. И ведь если бы они были обещаны только прочим, но ведь и для себя одни лишь клятвы: «Завтра… Вот завтра, – непременно!» Произнесённое только что неизменно оказывается сказанным третьего дня.
Быть может, рождённых на своём берегу, коим нет нужды тратить жизнь на поиски, судьба избавила от многих хлопот, но лишила она их и счастия. Обретший, наконец, свою долю, незримо ведомый… Не в том ли был свыше уговор? неведомо. Ни нам, ни ему…
– Не трогайте!
– Тебе чего, жалко?
– Для вас – да, и не надо мне тыкать, пожалуйста…
Виноград. Его плоды более, чем скромны, пока растут. Перламутровые от росы нефритовые мелкие шарики приникают к груди роскошной листвы, и та баюкает его, а ночами они дробно дрожат от холода, обнявшись. Звуки их сместного трепета тревожат поутру, и он куда как громче неприличного чавканья, которым грешат улитки, обгрызая картофельную ботву.
Взрослеет виноград едва ли не в один час. Он делается вдруг заметным. Выпроставшись из пелён листвы, отстраняется от неё, пренебрегая призором, и парит, напрягая пирамиды гроздий, собрав их в кулаки с плотно сжатыми пальчиками ягод. Листва, растроганная сочувственным умилением, сперва теряется, но вскоре теряет свой вид и вянет. Рассерженная осень, из сострадания к элегантности гроздий, от нелепости их пребывания подле поблекшей листвы, спешит оборвать её, даже не подозревая про то, какой недоброй оказывается услуга. Оставшись совсем без защиты, виноградины пекутся на свету, зябнут при луне, и скоро старятся, превращаясь в изюм, ибо некому боле печься об их благополучии.