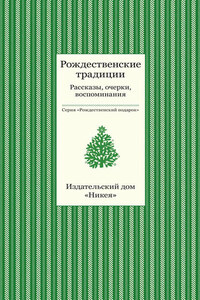У Никодима была (помимо очевидной) еще одна причина запомнить 24 мая 195* года: в этот день его мать назвала ему имя его отца. Человеческая память умеет компенсировать определенные несовершенства собственного устройства, закладывая в свои хранилища некоторые ключевые моменты целиком, даже не мгновенным фотографическим снимком, а полным слепком, объемной звуковой и пахнущей картиной мгновения. Потом эта минута вспоминалась Никодиму как мизансцена тщательно продуманного спектакля (покрываясь, может быть, некоторой патиной по мере погружения во внутренний депозитарий): одна створка окна была приоткрыта, светлая штора шевелилась, как будто любопытствующий невидимый соглядатай с той стороны стекла приоткрывал ее, чтобы получше рассмотреть комнату; с Большого Козловского доносился обычный уличный шум – проезжали машины, дворник поливал мостовую, чтобы сбить пыль; доставалось воды и вязам, росшим по обе стороны переулка (про один из которых, ничем не выделявшийся в ряду близнецов, отчего-то говорили, что он видел Наполеона); лаяла собака. Кухня, на которой оба они сидели, больше всего напоминала то, как средневековые граверы, сроду не выезжавшие дальше своего Нюрнберга или Аугсбурга, изображали жаркие страны: джунгли – так уж джунгли, а вместо тигра – чудовищно увеличенная домашняя кошка с гипертрофированными зубами и когтями. Окно, балкон и все горизонтальные поверхности были уставлены горшками, в которых росли материнские, раздобревшие в холе тропические питомцы: сансевиерия, вымахавшая чуть не в человеческий рост, с ее зелеными мечевидными (и действительно острыми, как ножи) мясистыми побегами; широколиственные спатифиллумы, временами скупо цветшие белыми цветками, формой повторяющими листья, светло-зеленые хлорофитумы, свешивающие свои побеги, на которых образовывались новые молодые кустики, нелепо пускающие в воздух паклю блеклых корешков в тщетной надежде дотянуться ими до жирной, питательной родной почвы, оставшейся в тысячах километров к югу, – и еще десятки растений, названий которых Никодим не знал или забыл.