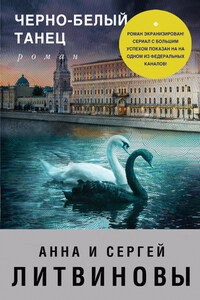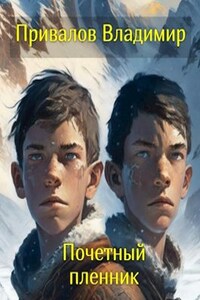Это забавное столкновение разыгралось на репетиции четвёртого акта известной пьесы «Дорога избранных».
Началось с того, что режиссёр, утомлённый безуспешностью героических попыток своих приблизить артистов к тайному смыслу пьесы, сказал, не скрывая досаду:
– Отдохнём, господа, минут пять.
Вынув часы, глядя близорукими глазами на циферблат, он подошёл к рампе и вызывающе взмахнул головою пред пустым мешком зрительного зала; в чёрной глубине мешка одиноко замер жалкий, красноватый огонёк, едва освещая верхнюю часть какой-то двери. Можно было думать, что там, за дверью, тьма ещё более густа и уже безгранична.
Режиссёр пользовался репутацией новатора и, рассматривая артистов как музыкальные инструменты, которые он должен настроить, – презирал их. Он был одет в бархатную блузу, и от него исходил странный запах – как будто человек этот только что позавтракал очень душистым мылом. Маленький, узкогрудый, на тонких ножках с вывернутыми коленками, с большой головою в чалме волнистых волос, он искусно сделал свое синее, бритое, длинноносое лицо страдальческим, навеки брезгливым лицом человека, который осуждён украшать собою мир людей глупых и бездарных. Крепко поджимая толстенькие, очень красные губы, прищурив глаза – их зрачки напоминали цветом спелую сливу, – он смотрел на всё и ни на всех безнадёжно и, казалось, молча упрекал:
«Это – не так».
Один из врагов его, рецензент, утверждал, что, говоря о «Скупом рыцаре», режиссёр «обмолвился»:
– Я не отрицаю, Андрей Степанович Пушкин даровитый человек.
Из глубины сцены режиссёр был похож на гнома, который молча вызывает в помощь себе духов тьмы.
В сероватом сумраке слабо освещённой сцены – четверо артистов: героиня, женщина, не удовлетворённая жизнью и обязанная страдать; комик, её муж, человек «здравого смысла» и, разумеется, пошлый; субретка[1], девушка, которой предстояло создать новую драму в жизни, и герой, искатель «новых путей». Кругом их торчали в хаотическом беспорядке обломки скал и какие-то странные предметы, обесформленные сумраком, между скал помещался круглый пол, на нём сидел герой пьесы и, посвистывая, чертил карандашом в тетрадке своей роли.
Сцена тоже имела что-то общее с раздутым мешком. Пыльный воздух её был пропитан запахом клея, краски и какой-то особенной, сухой гнили; возможно, что это запах разложения бесчисленных женщин и мужчин, убитых авторами для развлечения зрителей. А из безмолвной тьмы зала притекал смешанный аромат духов, пыли, человеческого пота, ваксы и кожи ботинок.