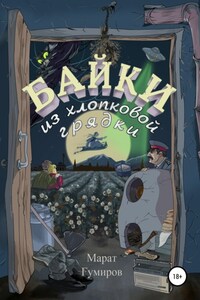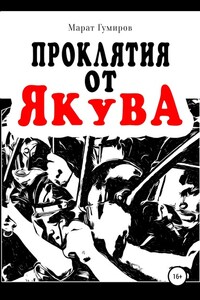Дом, в котором никто не живёт.
Малауз-опа1 подошла к стене, на которой висел календарик.
На листке стояла жирная цифра «30» и две надписи помельче. Верхняя надпись была «октябрь». Нижняя – «суббота». Старушка сорвала листок, и черная жирная тридцатка превратилась в красную цифру «31», «октябрь» стал красным, а «суббота» еще и сменилась на «воскресенье».
В тесной комнатке с глиняными стенами и полом вовсю пылал очаг. Подвешенный, над ним бурлил старый большой казан. Из-под его крышки густо валил пар.
Малауз-опа перевела взгляд с очага на скособоченную плиту у другой стены. На обеих ее конфорках шкворчали казанки поменьше. Мутное стекло единственного крохотного окошечка кибитки запотело. Было влажно и душно.
Старушка потерла рукой поясницу. Подхватила со стола миску с каймаком и кусочками лепешки и направилась к двери. Ничего ей больше сейчас не хотелось, как вдохнуть холодного утреннего воздуха. Там же можно и позавтракать.
Дверь из старых досок со скрипом открылась и жаркий воздух, словно волна, вынес Малауз-опа наружу, в освежающее октябрьское утро. Она вдохнула прохладу как можно глубже. Выудила из миски кусочек размякшей лепешки и кинула его в рот. Потом закрыла глаза и стала перемалывать еду старческими деснами. А когда она открыла глаза вновь, то увидела его.
Он стоял в проеме калитки. Точнее, на месте, где когда-то было калитка. Дувал на северной стороне двора развалился, не стало и проема, сквозь который можно было попасть во двор и выйти с него.
Мальчишка был одет в заношенные джинсы и «непромокаемую» куртку, совершенно потерявшую цвет. На ногах запыленные и подвернутые солдатские кирзачи2. Довершала наряд выгоревшая добела, опять же армейская, панама «афганка». Паренек явно гордился ею и потому лихо нахлобучил на макушку из черных, давно не мытых волос. Из кармана куртки торчал номер «Ровесника», свернутый в трубку. Через плечо висел фартук для хлопка.
Малауз-опа оглянулась и убедилась, что дверца в кибитку закрыта. Скользнула глазами левее и позади мальчика. Там в углу двора, у оставшегося куска дувала3 стоял тандыр. В его жерле горела гузапая4, а подле наготове лежала куча коровьих кизяков. Все было в порядке.
Старушка положила в рот еще кусочек лепешки, размякшей в каймаке, и посмотрела на пацана.
– Ассалому алейкум, опаджон