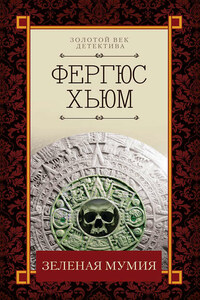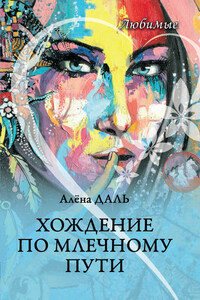Зима 1914 года.
Дом заводчика Марамонова стоял за чертой города во власти любимого хозяином помещичьего простора. Подбираясь ночами к дому, волки вязли по брюхо в снегу, с пригорка подолгу глядели на желтоватый свет облепленных снегом окон.
За граненым хрусталём морозных узоров смутно угадывалась освещённая свечами ёлка, сыпались искры бенгальских огней, слышались тосты за наступающий Новый год. Приглушённый шум весёлого застолья внезапно стихал, чтобы смениться тоскливыми звуками рояля и метящим прямо в душу меццо-сопрано: «Отцвели уж давно хризантемы в саду…»
Последний аккорд в согласии с неспешными снежинками невесомо ложился в освещённую окнами позолоту сугроба, наступала такая тишина, что даже извозчичьи лошади перестали пофыркивать и хрустеть сеном. А потом из окна в окно перекатывались аплодисменты и, словно в отместку за наполненные тоской минуты, поднимался весёлый гам.
На просторное мраморное крыльцо, весело толкаясь, вываливала многолюдная компания: дамы в мехах, господа, накидывающие на ходу шубы, цыгане со скрипками, прислуга с поднятыми над головой фонарями. Чей-то восторженно-хмельной голос от переизбытка чувств дрожал в морозном воздухе:
– Господи, какое счастье родиться в России!.. Нет-нет, не смейтесь, господа. Я знаю, я немного пьян, но вы посмотрите на эту луну, на этот снег! А эти звёзды, господа!
В ответ громко стреляла пробка шампанского, пенная струя хлестала из бутылки гибкой белой волной.
– Яшка, ну-ка рвани что-нибудь такое – э-эх! – чтобы душу пробрало хлеще мороза.
Плач цыганских скрипок взвивался к свисающим с крыши толщам снега, к сплетению заснеженных ветвей, к ослеплённым ручными фонарями звёздам. Дамы и господа осушали бокалы, в порыве чувств разбивали их о мраморные ступени, заваливались в сани. Ямщики с гиканьем уносились со двора, теряя на лихом повороте хмельного барина.
– Стой!
– Тпр-ру!..
Путаясь ногами в глубоком снегу, весело визжа и падая, компания бежала за потерянным седоком, а тот со счастливым видом выбирался из сугроба, – без шапки, с полным воротом рассыпчатого снега, – восторженно передёргивал плечами: «А, хорошо!»
Весёлой гурьбой снова валились в сани, уезжали за несколько вёрст от усадьбы, в глубины Макеевского леса. Под копыта лошадей неслась усыпанная звоном бубенцов изгладь санной дороги, от тройки к тройке летела весёлая перекличка: крики, хохот, свист. Луна бежала по ту сторону густо заснеженного леса, снега вокруг неё было так много, что казалось, не только на деревьях, но и на самой луне лежит съехавшая набок бело-голубая снежная шапка.