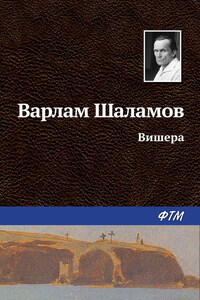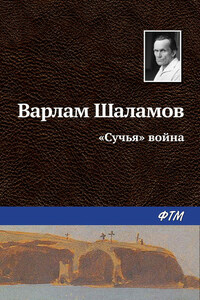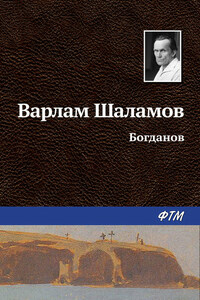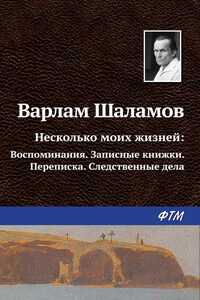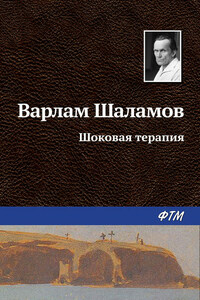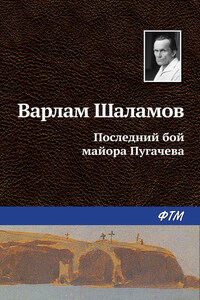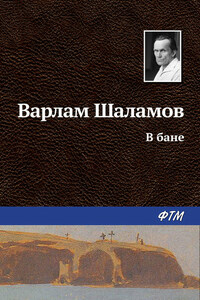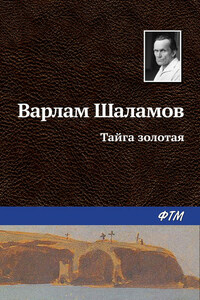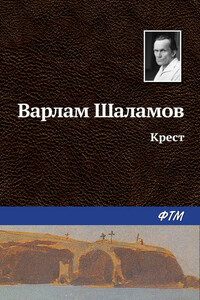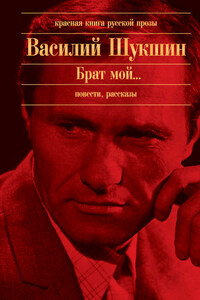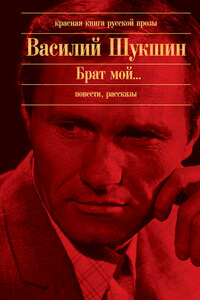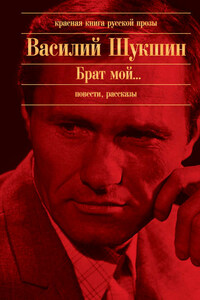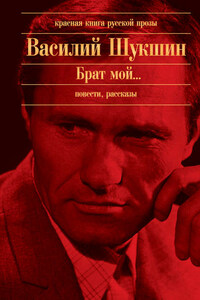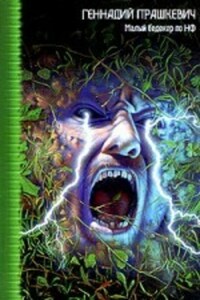На каждой станции я просовывал в щель записки: перешлите в Москву, в университет, меня везут в лагерь, везут вместе с уголовниками, протестуйте, добейтесь моего освобождения… перевода к своим. Голодовку было поздно объявлять, меня взяли прямо из 67-й камеры Бутырской тюрьмы, после полуторамесячной одиночки № 95 МОКа – мужского одиночного корпуса. В этой одиночке я сидел вместе с Попермейстером, но ушел раньше, чем он.
Приговор – три года концлагеря – был по тем временам жестким. Давали ссылку, политизолятор, но со мной было решено рассчитаться покрепче – показать, где мое место.
Со мной не было никаких вещей, никаких денег – пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона.
Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым…
Подлое мщение, удар в спину Особого совещания, великого мастера пресловутых амальгам. Но я еще мало тогда знал об амальгамах. Через четверть века, через двадцать пять лет, в 1954 году в кабинете районного уполномоченного МВД, когда я устраивался на работу агентом снабжения Решетниковского торфопредприятия, «начальник» просмотрел мои документы – «социально опасный».
– Вор?
– Да вы с ума сошли! Тогда так давали…
– Ну, не знаю, не знаю…
И я едва не был выброшен за порог.
Много раз в жизни я мог оценить пресловутую амальгаму.
В 1937 году в Москве во время второго ареста и следствия на первом же допросе следователя-стажера Романова смутила моя анкета. Пришлось вызвать какого-то полковника, который и разъяснил молодому следователю, что «тогда, в двадцатые годы, давали так, не смущайтесь», и, обращаясь ко мне:
– Вы за что именно арестованы?
– За печатание завещания Ленина.
– Вот-вот. Так и напишите в протоколе и вынесите в меморандум: «Печатал и распространял фальшивку, известную под названием «Завещание Ленина».
И полковник, любезно улыбнувшись, удалился. Было это в январе 1937 года в городе Москве, во Фрунзенской «секции революционной законности», как именовались тогда местные НКВД.
В дневнике Нины Костериной ее отцу дают в 1938-м – СОЭ. Мне этот литер давали в 1929 году. Следствие вели по 58-й (10 и 11), а приговорили как СОЭ, чтоб еще больше унизить – и меня, и товарищей. Преступления Сталина велики безмерно.