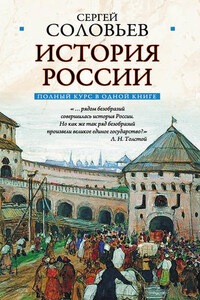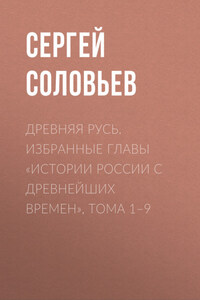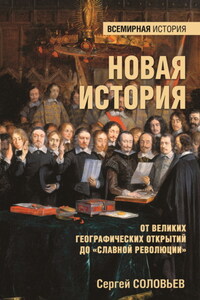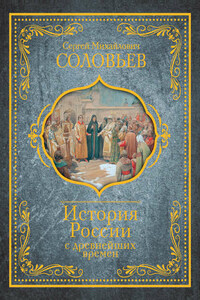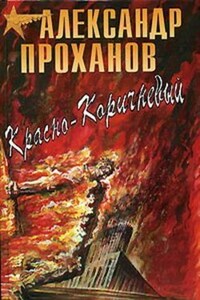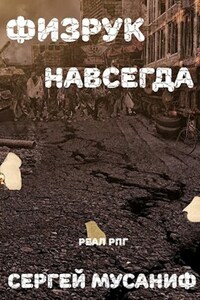Предисловие. Труженик науки
В середине XIX столетия, когда в научном мире появился Сергей Михайлович Соловьев, русская историческая наука пребывала в состоянии практически зачаточном. Да, до Соловьева на этой ниве потрудились уже лучшие исторические умы – Татищев и Карамзин. Но первый собирал по крупицам факты родимой древности столетие назад, создав замечательное для своего времени сочинение «История Российская», в котором охватил события от начальных, то есть мифических времен, до конца XVI века. Татищев рассматривал историю с точки зрения монархической, то есть считал, что русское государство утвердилось и обрело силу благодаря монархическому правлению. Он был, как мы теперь говорим, едва ли не первым историком-государственником, то есть историком, видевшим движение прогресса в усилении и упрочении государства. Бесспорно, Татищев сделал очень много для зарождающейся русской исторической науки, но едва ли не самое важное, что для своей работы он использовал утраченные позже источники. Соловьев уважал Татищева, ведь именно тот впервые ввел в русскую историю такие понятия, как этнография и этногеография. Недаром он сказал о Татищеве такие слова: своими трудами Василий Никитич дал «путь и средство своим соотечественникам заниматься русской историей». В устах Соловьева это была наивысшая оценка. Другой историк, несомненно серьезный и крупный хотя бы в силу охваченного им материала, – писатель Николай Михайлович Карамзин, который начал с романов и закончил многотомным трудом «История Государства Российского». В отличие от спокойного и не склонного к аффектации Татищева, Карамзин был совершенно другим человеком. Из него так и выпирал писатель. Карамзин то возвышал свой голос до патетики, то опускал его до зловещего шепота. Недаром карамзинскую историю с удовольствием читали люди весьма далекие от науки и очень хвалили: Николай Михайлович любил писать душевно. В глазах Соловьева эта «душевность» только снижала качество карамзинского труда. Ученый, считал Соловьев, должен быть строгим и уметь оперировать фактами, сопоставлять их, а не просто переписывать летописные сказания. Карамзин, заставший на своем веку царствование нескольких монархов, назначенный главным историком страны при Александре Первом, конечно, не мог не славить своего «кормильца» и ту систему, на вершине которой стоял государь. Любое ограничение власти императора казалось ему кощунственным и недостойным истинно русского ума: силу государства он видел в сочетании самодержавия и православия. Православие в карамзинской системе власти в России выполняло функцию той божественной гири, которая при необходимости уравновешивала состояние общества, увеличивая вес, если народ вдруг выказывал недовольство или случалась какая-то внешняя беда, то есть вера, по Карамзину, внушала государям правильные действия для блага народа и она же сплачивала людей, заставляя их еще лучше служить своим правителям. Вполне очевидно, что в эту двуглавую модель Карамзин верил совершенно искренне, клеймя конституцию и прочие западные мерзопакости как непонятные и ненужные русскому человеку. Он страшно боялся возвышения аристократии, которая может свести все достижения самодержавия к нулю, ограничив власть государя. Вероятно, декабрьское восстание, которое он пережил едва на год, было для него неожиданным и весьма неприятным сюрпризом. «Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья», – считал он, так что посягнувшие на самое святое – самодержавную власть – ранили историка в самое сердце. Как можно посягать на палладиум, на лучшее, что есть и что создает страну? Все эти воззрения писателя-историка нашли отражение и в его научном труде. Соловьев, естественно, не мог не оценить подвиг Николая Михайловича, ушедшего в историю с 37 лет и до последнего вздоха, но он не мог воспринимать всерьез многое из сказанного Карамзиным, поскольку в голосе того преобладало более эмоций, чем трезвой оценки фактов. Правда, в юные годы карамзинская история была его любимым чтением. «Между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю Басалаева, – рассказывал он, – и эта книга стала моею любимицею: я с нею не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз; особенно прельстила меня римская история… Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Басалаева я достал довольно подробную историю аббата Милота, несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения… Единовременно, кажется, с Милотом, попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, то есть до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз, разумеется, без примечаний, но некоторые томы любил я читать особенно, самые любимые томы были: шестой – княжение Иоанна III и восьмой – первая половина царствования Грозного; здесь действовал во мне отроческий патриотизм: любил я особенно времена счастливые, славные для России… Двенадцатый том мне не очень нравился, именно потому, что в нем описываются одни бедствия России…»