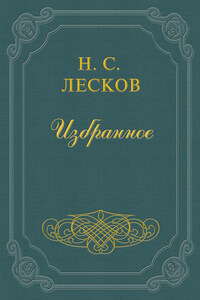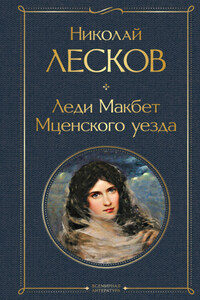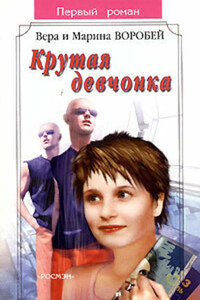«Память праведного с похвалами», «Честна пред господом смерть преподобных его». Эти слова церковных песнопений, если приложить их к явлениям, сопровождавшим недавнюю кончину М. Н. Каткова, сопричисляют львояростного кормчего «Московских ведомостей» к сонму праведников и навеки вплетают имя его в благоуханный венок преподобных.
Телеграммы со всех концов родины и из центров западной политики, усердно подобранные по графам топографической росписи в последней книжке «Русского вестника», должны как бы воочию напоминать падким на забвение россиянам, что их умерший собрат унес за собою в могилу скорбь лиц, и восседающих на высоте императорского трона и скромно ютившихся под сенью жилищ провинциальных чиновников. Во всяком случае, можно поручиться, что дотоле ни один русский писатель своей смертью не принес столько работы телеграфному ведомству. Сказалась его смерть и на работе железных дорог: из Петербурга в осиротелую Москву не потяготился проехать сам И. Д. Делянов, чтобы над свежей могилой лейб-пестуна и гоф-вдохновителя министра народного просвещения пролить слезу благодарности от муз российского Парнаса, а из Парижа на погост Алексеевского монастыря примчался республиканский монархист Поль Дерулед, сия взлелеянная на Страстном бульваре французская ипостась того самого вольного казака Ашинова, кого венчала скороспелыми лаврами героя XIX века властная, но не всегда разборчивая на хулу и на хвалу рука московского громовержца.
Если эти свежие картины прикинуть к тому, как и на нашей памяти и по живому преданию старины наша вялая и сонная родина провожала в последний путь земли не только Тургенева или Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй, будущий ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею скорби, по воплям усердных плакальщиц и воздыханиям телеграфных причитальщиков признает кончину Каткова утратой более горестной, чем смерти названных только что ее лучших писателей, а Михаилу Никифоровичу усвоит титул «князя от князей» русской письменности.
Нужно ли говорить, как опрометчиво было бы такое признание, если оценивать писателя не по воплям его осиротелых оруженосцев, а по настоящему весу того, что защищал пером своим писатель.
Что вспомнит каждый из литературного наследия Каткова при первом же упоминании его имени? Конечно, классицизм, ради торжества которого он не только создал на весьма сомнительные приношения Полякова особый Лицей, столь же далекий от афинского, насколько П. М. Леонтьев был не похож на Аристотеля, как бы на этот счет ни судил осиротелый ныне А. И. Георгиевский, но и всю русскую школу от Ревеля до Иркутска и Оренбурга под единообразный колер греко-римского тонкословия. Но от сего «плясали лики» лишь тех чешско-русинских иродов, от усердия которых «сбыстся реченное Иеремией-пророком, глаголющим: ужас в Раме слышан бысть, плач, и рыдание, и вопль мног», раздавшийся в каждой русской семье, над чадами коей с 1877 года, по указке М. Н., творили свои лютые эксерсицы австрийские изверженцы, в гостеприимных складках русской порфиры нашедшие убежище от подчас весьма заслуженной кары венских и пражских полициантов. Не подумал впопыхах каждодневного писания страж монархии и про то, каким удобрением для всходов на монархической ниве явятся ораторы и историки республиканских Афин и Рима, лучшие страницы свои пропитавшие неутомимой ненавистью к тиранам. Он будто не видел, как много дров кладет на костер неизбежной в первую голову из-за его же работы русской революции руками призванных им из-за Карпат бездушных шульмейстеров, беспощадно выбрасывавших на улицу всякого живого юношу, не способного познать сладость Кюнера и мудрость Юлия Цезаря… Фелькеля.