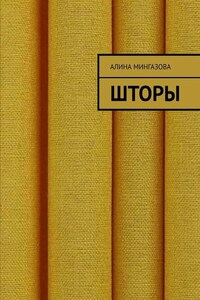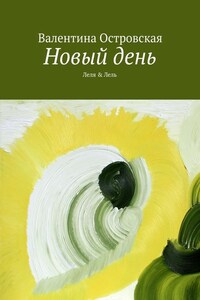Я проснулся от противного, режущего слух, писка мыши, который доносился из угла, где я, как мне помнится, оставил вчерашнюю недоеденную стряпню Хава. Вот уж не мог бы подумать, что она может сгодиться хотя бы для одного живого существа, обладающего хоть какими-нибудь вкусовыми рецепторами. Писк и легкий шорох усиливались по мере моего пробуждения, и моя головная боль нашла себе сторонников и последовала за ними.
Шторы из плотной ткани грязного желтого цвета с различными дополняющими их пятнами из-под вина, крови и кое-где, застывшей во времени, словно памятник былых хороших деньков, рвоты, не пропускают уличный свет, и я не могу сказать ни сколько примерно времени, ни даже какая сейчас часть дня. Они дезориентируют, и за это я терпеть их не могу. В жизни и так полно ситуаций и вещей, которые сбивают с толку, не хватало еще и доисторического куска ткани. Как-то в порыве гнева, не помню уже из-за чего, да и повод для злости не всегда нужен, я вцепился в это полотно и в истерике начал дергать его, извиваясь от злости, эта сволочь мне не поддавалась. Следующее что помню – это как я лежу на полу, предательски накрытый этой шторой, а на лбу у меня светится синяк от упавшей вслед за мной гардины. Она меня таки победила, а достойно проигрывать я научился еще в младшей школе, поэтому первым делом после того как оклемался, повесил своего победителя на законное место, где он провесит еще не один десяток лет. Да и Сакура обожает эти шторы. Не хочу коверкать её слова, но говорит она о них примерно вот так: «Я могу решать, когда их закрыть, а когда оставить открытыми. Я могу пригласить свет в эту комнату, а могу оставить его так и ожидать у оконных рам, когда наконец-то его впустят. И я хоть что-то могу контролировать в этой жизни. Ночь и день под моей властью. Пару движений и я становлюсь богиней». Хотя она говорит мало, получается у неё это чертовски красиво. Ее редкие речи я передаю потом как сказки, стараясь не упустить ни одной детали. Однако даже это выходит у меня безобразно, так, что однажды я поклялся ради блага этого мира и общества, прекратить разговаривать совсем и общаться со всеми путем вырисовывания на бумаге каракуль, которые я называю почерком. Это мое благое деяние потерпело постыдное фиаско. Истратив всю бумагу, а впоследствии все поверхности на которых только возможно писать: газеты, чеки, обертки, пачки от сигарет, туалетная бумага и даже часть обоев со стен нашей и без того голой кухни, я был вынужден заговорить. Хватило меня на каких-то девять дней. Дом всё еще помнит эту историю, пересказывая ее новым соседям словно легенду, в которую они конечно не верят и считают бредом. Зачастую новые соседи в нашем доме еще совсем зеленые мальчишки и их беременные, еще более молодые жены. Поэтому я на них зла не держу.