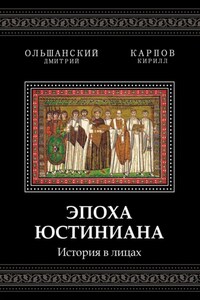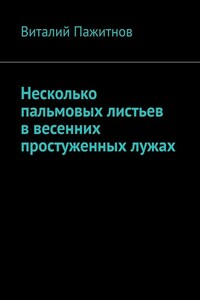ВАЯТЕЛЬ ВНУТРЕННИХ ФОРМ: ПОЭТ ДМИТРИЙ ОЛЬШАНСКИЙ
Разве вещь хозяин слова?
Осип Мандельштам
Сборник Ольшанского возрождает традиции русского модернизма, возвращая читателю ощутимость словесной материи и феноменологический интерес к акту восприятия. Освобождая сознание от предвзятых смысловых структур, грамматических норм и заскорузлых образов-клише, поэт зондирует неоформленное, сырое бытие и запечатлевает в материи языка эхо обрывочных, но пронзительных впечатлений. Грани между субъективным и объективным, внешним и внутренним, телесно ощутимым и интеллектуально осознанным размываются: поэзия Ольшанского исследует то, что Гуссерль и Мерло-Понти назвали бы интенциональностью, или становлением отношения воспринимающего сознания к тому или иному объекту. Стихотворения приглашают читателя пережить некое интуитивное слияние с предметами, ситуациями, видениями, возникающими из ассоциативного ряда, чтобы промелькнув на секунду искрой, померкнуть, заставляя наше сознание резонировать аллюзиями снова и снова. Это стихотворения, которые можно и должно читать бесконечно, потому что каждое новое обращение открывает новые грани виртуозно сконструированных словесных амальгам. Вместе с поэтом мы осматриваем наслоения, вынесенные потоком сознания – палимпсесты, в которых причудливо спрессовались хаптические ощущения, умозрительные зарисовки, эмоциональные оценки, отсылки к мировой культуре, психоаналитические разыскания, и какая-то неповторимая, подкупающая чистотой взгляда магия, остаточное вещество искусства.
Ольшанский ставит себе задачей «создавать мир» посредством слова, и с этой общей эстетической установкой связана интереснейшая работа, которую он проделывает с русским языком. Уместно сравнение с Хлебниковым, чьи лингвистические эксперименты, по словам Мандельштама, погружались «в самую в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь». Однако, блуждание в недрах предсловесного хаоса, в сумерках на грани семиозиса, никогда не приводит современного автора к глоссолалии, к фантомной ономатопее. Скорее, игра слов Ольшанского – дань методам континентальной философии: это последовательное, намеренное расчленение устоявшихся словосочетаний и новая, совершающаяся у нас на глазах, их пересборка и переосмысление. Подобно среде наэлектризованной эбонитовой палочкой, лексикон поэта вытягивает из привычного словаря электроны-семемы, кристаллизуясь в многогранные, намагниченные смыслом неологизмы («отцутствие»), фразы-ипаллаге («бездомные ласки детей»), строки-каламбуры («Jouir-чание родовых путей»). Ведутся лабораторные опыты с «внутренними формами» слов – осколками чувственных образов, запечатленных в подвижной магме речи, в отголосках фонетических норм, в семантических облаках, испарившихся с поверхности морфем. Взять, к примеру, строку «кромешные мо́шны агнцев от-роковиц до зрачков» из последнего стихотворения в цикле «Эолк.» Здесь нутряное переплетается со зрительным, библейское с животным, мужское с женским, сексуальное с табуированным, детское с по-взрослому страшным: перед нами медитация о заклании.