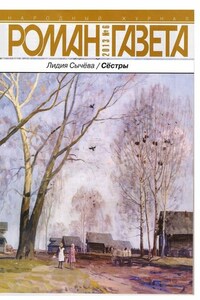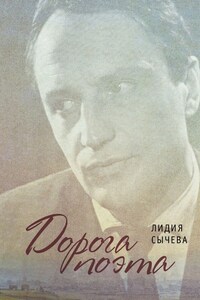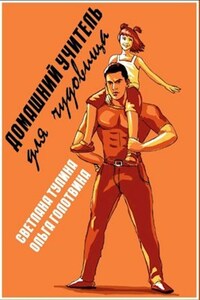Автобус – «ледяной дом» – катится по густым сумеркам, – зимним, московским. Тесно от шуб и дубленок, холодно и постыло – медленно едем, от двери дует. Пугаю себя, готовлю к худшему – вдруг Митя заболел? Утром вставал трудно, капризничал, колготки надел наизнанку; я проспала, спешила, так и потащила в детсад; где бегом, где уговором, за руку, за воротник черного цигейкового тулупчика.
– Митя, – зову я в пустоту игровой и спальни, – Митя!
Недовольная воспитательница, вчерашняя школьница с когтистым фиолетовым маникюром и жирно накрашенными губами, волокет моего взъерошенного сына из умывалки, когти вязнут в клетчатой рубашке:
– До шести работаем, сколько раз говорить! Опять на тихом часе не спал. Аню Буданову толкнул. В краски влез.
Я бормочу извинения, трогаю Митин лоб – слава Богу, пронесло. Болеть нам никак нельзя. Два больничных за полгода – и, прощай, работа!
Дома я энергично поворачиваюсь на кухне – кипит бульон, жир скворчит и компот варится. Сынок посидел чуть у телевизора, и тут как тут, тащит «КамАЗ» за веревочку и резинового крокодила за хвост: «Мам, давай поиграем…»
– Давай, – вздыхаю я; и сыплю соль, больше положенного сыплю.
За ужином Митя жалуется на Светлану Петровну – злюка, дерется.
– А ты не балуйся, – наставляю я.
– Все равно дерется, – упорствует сын и, вспомнив дневные обиды, начинает плакать.
– Ну-ну, не нюнься, – жалею я Митю, – мужик ты или кто? Мужик, мужик! – и ворошу сынишкины кудри. Красив у меня Митька, и в детском саду держится. Ничего! День прожили.
На ночь я читаю сыну книжки. «Дядя Степа» проштудирован нами вдоль и поперек, и сегодня Митя тащит из шкафа корешок покрасивей.
– Это взрослая, – предупреждаю я.
Митя упрямится, толкает в бок: «Читай!»
Будильник не забыть завести. Завтра обязательно надо заплатить за свет – последний день. «Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были просторечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволяющую ему ни на миг задуматься в минуту действия… Мягко и определенно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебленную твердость, а улыбка беспритязательное, почти детское добродушие…»