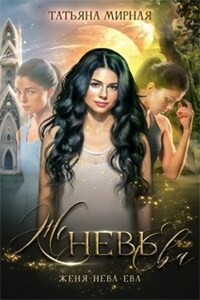Историю рассказывает не «я сегодняшний», «сегодняшнее я» настолько устоялось, что разрешает, насколько это возможно, устранить себя на какое-то время. Наверное, это трудно понять. Как можно в действительности почувствовать себя другим человеком, не тем, кто ты сейчас?! А все-таки можно.
Возвращение в свою старую шкуру – дело болезненное, и я бы не стал мучить себя попусту, но мне нужно пережить это заново, чтобы пойти дальше. Все остальное – вторично. Дрожь уже подступает, и я почти доволен. В следующую минуту я – надеюсь на это – уже не буду помнить, что мне известно, чем все закончилось.
* * *
Тогда мне нравилось ненавидеть людей и слушать песни Джонни Кэша о любви. Я писал «Оду ненависти» и не мог решить: взять в качестве эпиграфа предполагаемую эпитафию Тимона: «Здесь я лежу, разлучась со своею злосчастной душою. Имени вам не узнать. Скорей подыхайте, мерзавцы!» или строчку из песни She used to love me a lot. Я любил повторять, что слушать кантри – патриотично. Особенно в современной России.
Я никак не мог закончить свою «Оду ненависти». На работе я запирался в туалете на сорок минут в день и скреб карандашом по бумаге блокнота, но это не давало никаких результатов. Вечером, когда я мог набрать текст на ноутбуке, слова из блокнота обесценивались, становились пустыми оболочками, которые нужно было заново наполнять частью своей отравленной души.
На тот момент я уже порядком попутешествовал и не видел особой разницы, просто не мог представить, что где-то мне действительно может быть хорошо. Ощущал катастрофическую неполноту, ущербность существования, просто уже не видел выхода. Мне казалось, что от себя не убежишь, что незачем ехать куда-то, но и оставаться в этом городе я больше не мог. Нужно было прерывать это тягучее течение. Это был шанс на спасение.
* * *
На автовокзале меня никто не встретил, я стоял со своим чемоданом и глупо озирался. Прохожие присматривались: мой красный идиотский чемодан вызывал недоверие, а потрепанная табличка с надписью «г. Северокоцитовск» внушала недоверие мне. От холода у меня слезились глаза.
– Тебе куда, сынок? – просипел забулдыга с седой, торчащей клоками щетиной.
Голос у него был еще тот. Такой не забудешь.
– На завод… на завод имени…