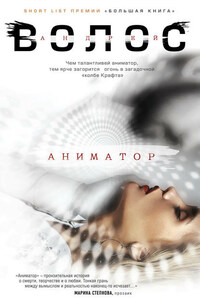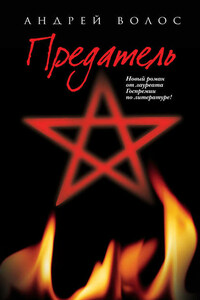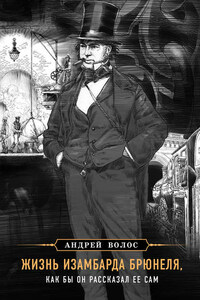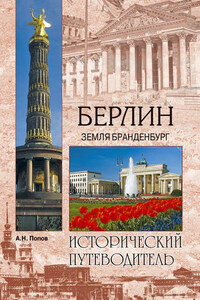Шумела весна, стояла теплынь, солнце светило с яркого неба, а у нашего Мурзика была чумка, и он умирал.
Он расслабленно лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Нос был сухой и горячий. Полузакрытые глаза безучастно смотрели в стену.
Я осторожно касался пальцем потускневшей, свалявшейся за время болезни шерсти.
– Мурзик! – тихо звал я. – Мурзик!
Мурзик не реагировал. У него была чумка, а коты от чумки умирают.
Чтобы не нагнетать лишнего напряжения, скажу сразу, что он, слава богу, не умер. То есть что значит не умер? Теперь-то его все равно уже нет на белом свете – ведь кошки не живут долго…
А к нам Мурзик попал совсем маленьким, чуть только не слепым. Не буду распространяться о том, каким он был славным в этом нежном возрасте. Котята все смешны и похожи: все они примерно одинаково скачут за бумажкой на ниточке, валяются по полу, кувыркнувшись с разбегу через голову, охотятся за тапочками, горбятся, грозно идут боком вприпрыжку и, припрыгав почти вплотную, вдруг, дико вытаращив глаза, совершенно по-человечьи встают на задние лапы, широко раскинув передние, точь-в-точь как это делают старые друзья, случайно встречаясь на улице.
Потом он вырос и превратился в большого боевого кота. В сущности, ничего примечательного в нем не было – самый обыкновенный кот самой плебейской тигриной расцветки. Серенький в полоску.
Жилось ему у нас неплохо. Холеный, закормленный, летом и осенью он был толст, медлителен и вальяжен, ступал с достоинством. Окном в мир, равно как и дверью, ему служила форточка. Он часами сидел на ней, рассматривая шевеление листвы и прыгающих в пыли воробьев, а потом вылезал наружу.
Все окна первого этажа в нашем большом доме были забраны решетками. Нагулявшись, Мурзик молча вспрыгивал с земли на оконный карниз, несколько времени топтался на нем, глядя вверх, на форточку, примеряясь и нервно перебирая лапами, наконец отталкивался, норовя попасть головой в одно из ромбических отверстий решетки, а затем неистово продирался внутрь, скребя когтями, мучительно сплющиваясь, кособочась, на воровской манер протискивая сначала одно, а потом и другое плечо.
В середине зимы Мурзик начинал гулять. Скоро бока западали, глаза на сухой морде начинали светиться сумасшедшим огнем, весь он покрывался болячками и шрамами, совершенно терял рассудок и превращался в жалкое безмозглое существо, способное только пьяно орать по ночам.