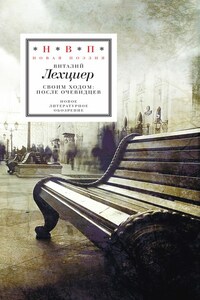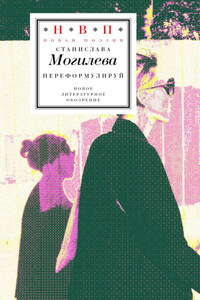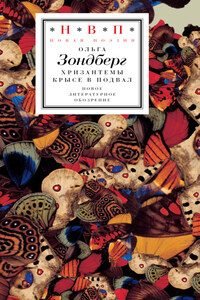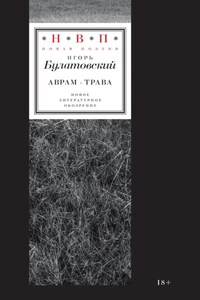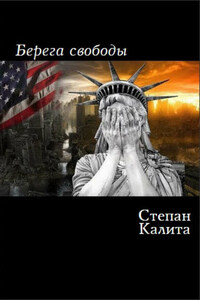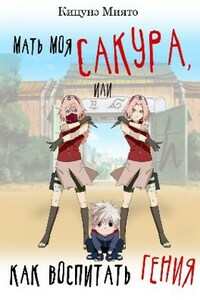© В. Лехциер, 2019
© Д. Ларионов, предисловие, 2019
© Н. Савченкова, послесловие, 2019
© Виталина Лехциер, фото, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
Виталий Лехциер – профессор философии, и разговор о его поэтическом творчестве никак не может обойти вопрос о его связи с профессиональными занятиями автора, в разные годы включавшими феноменологическое понимание эстетики (монография «Введение в феноменологию художественного опыта», 2000), философский анализ медицинской антропологии (монография «Болезнь: опыт, нарратив, надежда. Очерк социальных и гуманитарных исследований медицины», 2018) и многое другое. Несомненно, связь есть. Конечно, Лехциер не пишет «некую специальную „философскую поэзию“»[1], но и не стремится к своеобразному «опрощению», которое присуще профессиональным философам, в свободное от работы время сочиняющим исповедальную лирику и искрометные стихи на случай. Оба этих способа письма неприемлемы для Лехциера не только в силу тривиальности, но и потому, что предполагают неизбежную иерархию, когда один из голосов (поэта или философа) оказывается солирующим, а стоящая за ним субъективность – ведущей. Тогда как «поэзия в эпоху постметафизического мышления», согласно Лехциеру, предполагает «субъективность не медиумическую, а алеаторическую, ситуативную, рождающуюся каждый раз заново на основе игры случайности и необходимости»[2].
Но как может быть репрезентирована подобная субъективность?
В процитированной статье Лехциер утверждает, перифразируя известные слова Всеволода Некрасова, что она «реализуется через ситуативный опыт поимки речи на поэзии». Подобная установка так или иначе оказала влияние на всю русскую поэзию 1990–2010-х, но в особенности – на ту её часть, которую можно назвать документально-критической: к ней можно отнести «Стихи о Первой Чеченской кампании» Михаила Сухотина, «Чужими словами» Станислава Львовского, поэмы Антона Очирова и Александра Авербуха, пространные верлибры Дмитрия Данилова. Конечно, каждый из этих авторов по-своему работает с чужой речью, подчеркивая её частное (реже) или историческое (чаще) измерение. Но объединяет их то, что обращение к документальной повестке для каждого из них – лишь один из возможных способов создания поэтических текстов, вызванный внеположными причинами. Лехциер же предлагает проект тотального документирования, не ограничивающийся только «внутренней речью» (как в случае Некрасова) или «чрезвычайной ситуацией» (как в случае Сухотина или Львовского). По сути, любая (частная или историческая) ситуация может и должна быть рассмотрена с разных сторон, а любой речевой фрагмент использован как документ, требующий подтверждения или опровержения при помощи другого документа. При этом всестороннее рассмотрение может быть выполнено только «своим ходом», без включения в уже существующие традиции документирования и практики памяти, почти всегда обслуживающие чужие идеологические и экономические интересы. Подобный подход практически не представлен в русской поэзии, но уже довольно давно практикуется в поэзии американской (являющейся объектом пристального исследовательского интереса Лехциера), где уже более ста лет существует традиция поэтического «освоения» разного рода документальных источников, позволяющих репрезентировать лингвистические особенности разных социальных групп. В поэтических же текстах Лехциера социальная природа звучащих «голосов» определяется не столько их классовой, культурной или этнической принадлежностью, сколько профессиональными и/или обыденными дискурсивными стратегиями, через которые мы и узнаем героя (который может быть врачом, публичным интеллектуалом, пострадавшим в сталинское время родственником поэта). Подобная не локализуемая в той или иной страте всеохватность, являясь важным пунктом коммунитаристской утопии Лехциера, отличает его как от русских, так и американских концептуалистов.