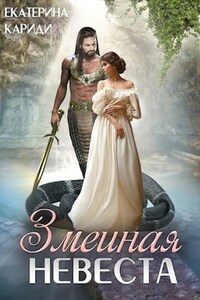Только начал утирать взопревшее от пота лицо подолом рубахи, как у самых его ног что-то быстро прошмыгнуло; как будто почувствовал и касание. «Это, кажется, Хопто…» – подумал он с облегчением. Но, открыв глаза и подслеповато пошарив вокруг, никого поблизости не обнаружил. Что это могло быть? Неужели просто примерещилось? Не дух ли смерти посетил его ненароком – удостовериться, охота ли ему еще продолжать жить или, намаявшись и махнув рукой на бесполезное прозябание, предпочитает без сожаления покинуть сей опостылевший мир?.. Нет, сам он звать не звал, но приходу Его не удивился и тем более не испугался. Словно даже готов был к этой встрече.
Старый Дархан знал, что умирать не очень страшно: однажды он почти побывал на том свете. Как говорится, одной ногой в могилу оступился – это точно. Выходит, жил как бы заново, родившись второй раз. Впрочем, задерживаться на подобной мысли не было никакой нужды; и она, мелькнув неосязаемой тенью, тут же и рассеялась.
Другое повергло Дархана в расстройство: куда мог запропаститься верный друг и страж Хопто? Был бы он сейчас с ним рядом, голубчик Хопто! Беспокойно крутился бы вокруг, ластился, поблескивал-вопрошал умными зелеными глазами: «О чем твоя грусть-печаль?» И развиднелось бы в душе – проглянула бы голубая прогалина среди несусветного мрака. Дархан до сих пор не перестал дивиться: как ни скрытничай, пес безошибочно определял настроение своего хозяина. Хотя чему же удивляться? Это необъяснимое чутье он унаследовал от своего дальнего предка; да и в остальном Он был точь-в-точь копией того, давнего, словно бы родившегося вновь. И общая стать, и острые уши торчком, и вытянутая морда с носом в пестрине, и глаза – две капли воды. И «Хопто» назван он был неспроста – в память и честь своего прародителя, погибшего совсем еще молодым, во цвете лет и сил…
Произошло это, помнится, на втором году войны, где-то в самом конце июля: в тот день на росистой зорьке впервые чиркнул истоcковавшейся косой; а то все дожидался, когда луг пожелтеет, как хвост сарыча[1]. И напевал, наверное, – тешился от неизъяснимой радости, словно знакомой до рождения и всякий раз волнующей по-новому. Косил и пел. И так длилось вечность, ибо время для него перестало существовать. Однако и притомился в конце концов.