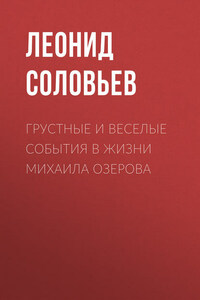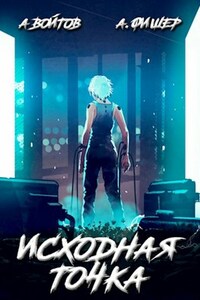О себе Кузьма Андреевич Севастьянов говорил так:
– На это я, мил-человек, любитель старинное сказывать. Я ее, старину-то, насквозь помню. Удивительное дело, мил-человек, годов мне все более, тело грузное, а память светлее. Я через свое умение пятерку заработал. Давно это было – лет десять. Приехал к нам эдак же один из города, заночевал у меня в избе. «Хозяин, – говорит, – ты, наверное, видел много, скажи, – говорит, – мне про старое». Я ему, конечно, всю ночь сказывал, а он – в книжечку. Да все пишет с успехом, а поспеть все одно не может. Прощаемся утром. «Спасибо тебе, Кузьма Андреев. На-ка, – говорит, – выпей за мое здоровье». Я жду, конечно, полтинник, и тому рад, а он – пятерку! Легкие, видно, были у него деньги…
Рассказывал Кузьма Андреевич хорошо, нараспев, мудрыми и светлыми словами. Забудется, закроет глаза и слушает сам себя как будто издалека.
Нового человека Кузьма Андреевич ни за что, бывало, не пропустит. Два дня будет ходить вокруг да около, выберет все-таки время и расскажет о старине. Очень уж поговорить любил. Оно и неудивительно, потому что никакой другой утехи в своей жизни Кузьма Андреевич не имел.
Был он широк в кости, здоров и на работу лютый, а прожил весь долгий век в покосившейся избенке; черные прогнившие доски крыльца давно уж покрылись мохом, на крыше выросла травка и даже большой куст лебеды. Стены избенки поддерживались хитроумным переплетом подпорок и кольев – вышиби две подпорки – и готово: завалилась избенка.
Еще в молодые годы мечтал Кузьма Андреевич поставить новый дом, да так и не собрался с деньгами. Всю жизнь он маялся то без лошади, то без коровы. Разве построишься?
Мечта о новом доме горечью осела на его сердце; если теперь приходилось увидеть где-нибудь проездом белый сруб, синеватый в отесинах, и сизые крылья мужицких топоров вкруг него – на целый день терял Кузьма Андреевич благодушие.
Однажды весенней ночью Кузьма Андреевич вышел на колхозные огороды, что примыкали к задней, глухой стене его избенки.
Ровный голубой свет заливал деревню, плыли облака; по крышам, по дороге и дальше, на полях, стлались дымные легкие тени и, добежав до оврага, исчезали, точно сваливались в него.
В голубом тумане дрожит тонкая комариная струна, роса блестит на траве, на кленовых лапчатых листьях, где-то далеко-далеко, словно за тридевять земель, сипло надрывается обезголосевший пес. Кричат лягушки в пруду – выгоняют месяц, что залез непрошеным гостем и разлегся в глубине на мягких зеленых водорослях.