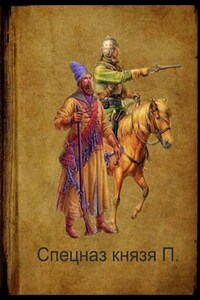-Бусурманин!?!....- раздался
надо мной зычный мужской бас. – Абаче, мыслю, узрячьем не
гож[1]?
Недоуменно сдвинув брови,
витязь направил в мою сторону острие полуторучного меча, который
выдавал своего носителя, как старшего дружинника княжеского войска.
А коли есть старший дружинник, значит, рядом должны быть и
младшие.
И верно… тотчас поблизости
громко захрустели сучья, и на поляну выехал второй всадник: с
копьем и коротким топором за поясом.
-Пошто долговременствуешь,
Микита? – обратился копьеносец к своему боевому
напарнику.
-Да вот, мню, послух ляшский
або литовский затулился от нас. Зришь, за древом в
заподе[2]?
Младший дружинник подъехал
поближе и потыкал в меня копьем, словно проверяя, человек ли перед
ним находится во плоти, или морок лесной.
-Ким естес? – спросил меня
старший витязь, видимо по-польски. Вопроса я не понял, но интонация
в голосе дружинника указывала на его желание узнать, кто я
такой.
-Русич я, - я шагнул из-за дуба
в центр поляны, - ляшской речи не ведаю.
-Русич, - переспросил
дружинник, - отнуду грядеши, русич, и
амо[3]?
-Черничие[4] беру, -
ляпнул я первое, что пришло в голову.
-Черничие, - снова повторил за
мной воин и окинул меня взглядом, - абаче, не мне прю вершить….
Заповаден[5]?
-Нет, оружь не иму.
-Ладно, ступай
заждь[6].
Оба всадника повернули коней на
юг. Младший дружинник пропустил меня следом за конем Никиты и
пристроил своего боевого коняку мне в спину.
В нескольких шагах от поляны
оказалась проторенная лесная дорога, вполне сносная для
передвижения как пешего путника, так и всадника на коне. Я ничуть
не удивился наличию поблизости от родного леса объекта, о котором
ранее ничего не знал. Что ж, иной временной мир, иные
условия….
Я послушно побрел за конем
дружинника Никиты, в радостном предвкушении побыстрее решить вопрос
с моим «опознанием» и отправиться в родной дом на опушке
Здобниковской рощи, где с нетерпением меня ожидали Аня с
Игнашей.
Через несколько минут путешествия лес
закончился, и я в сопровождении двух конных сотоварищей оказался на
краю свежесжатого поля с большими кучами снопов яровой пшеницы по
всей своей площади.
«Видимо, здесь уже не июль месяц», -
подумал я, памятуя, что в семнадцатом веке к уборке яри приступали
не ранее середины августа, или как здесь говорили «в жнивень», т.е.
как раз в период с середины августа до середины сентября.